
Эшелон на Самарканд
Гузель Яхина – уроженка Казани, обладательница престижных литературных премий, лауреат премии Правительства РФ в области культуры. Автор известных романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». В этом году увидел свет новый роман Яхиной – «Эшелон на Самарканд», отсылающий читателя в Казань 1923 года. Отрывок из книги автор любезно предоставила «Татарстану» для публикации
17 ноября 2021
Отрывок из романа
Моему папе Шамилю Загреевичу Яхину

- ПЯТЬ СОТЕН. КАЗАНЬ
Четыре тысячи вёрст – ровно столько предстояло пройти санитарному поезду Казанской железной дороги до Туркестана. Но самого поезда ещё не было – приказ о его формировании был подписан вчера, девятого октября двадцать третьего года. И пассажиров не было – их предстояло собрать по детским домам и приёмникам: девочек и мальчиков, от двух до двенадцати, самых слабых и истощённых. А вот начальник у эшелона уже был: фронтовик Гражданской, из молодых, – Деев. Назначен только что.
– Дети, – сказал ему вместо приветствия командир транспортного отдела Чаянов. – Пятьсот душ. Доставить из Казани до Самарканда. Мандат и инструкции получишь у секретаря.
За годы в транспортном Деев сопровождал всё, что могло передвигаться по рельсам, – от реквизированного зерна и скота до китового жира в цистернах, присланного дружественной Норвегией голодающему Поволжью. Детей, однако, – не приходилось.
– Когда выезжать?
– Хоть завтра. Соберёшь состав – и лети, Деев, птицей лети! Дети – они долгой дороги не любят, скоро сам поймёшь.
Вот и весь разговор – пара минут, не больше. Неясно лишь: что значило это странное «сам поймёшь»? Но раздумывать было некогда. Долгие раздумья – для стариков, у них времени много.
Первым делом отправился к вокзальному начальству. Те обещали поскрести по сусекам и наскребли всего один вагон, зато – бывшего первого класса, некогда благородно-синего, а нынче уже бледно-серого цвета, с гобеленовой, лишь местами рваной обивкой салона, почти целыми зеркалами и просторным общим холлом, где при желании можно было вальсировать. Когда‑то там располагалась дорожная библиотека и даже был установлен рояль, а теперь красовалась щербатая чугунная ванна (видно, перетащили из банно-прачечного отсека, да так и позабыли здесь). Смотрелась она в окружении пустых книжных полок и почерневших канделябров нелепо. По‑ морщился Деев, но вагон взял. Гобелены велел содрать к чёртовой матери, канделябры – сбить. В купе вместо элегантных багажных сеток над‑ строить вторым и третьим ярусом нары. А ванну – оставить. Пробовал было затребовать к ней и печку-чугунку, чтобы детям было где согреть воду для мытья, но был обозван буржуем и идею с горячим водоснабжением отложил на потом.
Второй вагон пришлось ждать до завтра: пригнали с Красной Горки, где он стоял четыре года на задворках паровозного депо. Посмотрел на добычу Деев и аж передёрнулся: не простой это был вагон, а путевая церковь. Видно, потому и пылился так долго в отстойнике, что приспособить его под какие бы то ни было советские нужды затруднялись. Позеленелую бронзу с купола можно было, положим, снять, алтарь разобрать. А арочные окна под красными бровками куда денешь? А кокошники под крышей?.. Принял Деев и этот вагон. Одна радость: вместительный. «Во сколько рядов лавки городить будем?» – спросил башкан плотницкой артели, уважительно разглядывая высоченный потолок. «Давай в три!» – махнул рукой Деев. Пожалуй, влезли бы и все четыре, но карабкаться на самую верхотуру дети могли побояться.
Вагон-кухню прислали пару суток спустя, из-под Симбирска, – кургузую коробчонку на колёсах, сбитую наспех из струганых досок и позже чиненную нестругаными, в заплатах из фанеры, с торчащей из слухового окна загогулиной печной трубы. Говорили, в симбирских тупиках ещё с девятнадцатого года стояло много такого барахла, и что‑то вполне могло сгодиться Дееву, но ехать туда с проверкой было недосуг.
Наконец, расформировали пришедший из Москвы пассажирский и пяток вагонов подогнали к деевскому эшелону, который путевые рабочие уже называли между собой «гирляндой» за разнообразие цветов и мастей. Вагоны – сплошь плацкартные, прокуренные и запакощенные насмерть – нуждались не в плотниках, а в обстоятельной уборке. Но Деев к тому времени так замучил вокзальное начальство требованиями (да всё «немедля!», «тот же час!» и «непременно!»), что в уборщиках ему отказа‑ ли. Плюнул он, набрал пару вёдер воды и принялся отмывать сам.
Тут-то она и появилась. Деев как раз пластался по мокрому полу, тряпкой выуживая из‑под лавки груду семечковой шелухи, – а у са́мого его лица возникли два тупоносых пехотных ботинка. Поднял глаза выше: икры, тонкие, не в солдатских обмотках – в нежной чулочной шерсти.
– Убийца, – так начала разговор. – Почему канителитесь?
Опешил Деев. Ещё выше глаза поднимает: юбка чёрная, узкая, а под сукном юбочным – острые колени.
– Пока вы тут пузом по полу елозите, умирают дети.
Он попытался вылезти из‑под лавки и сесть – тюкнулся затылком о лавочный край.
– Ты кто? – Перед женщинами Деев робел и оттого называл их исключительно на «ты», а себя держал гордо, с вызовом.
– Детский комиссар. Поеду с вами до Самарканда, если соизволите встать из лужи и приступить к выполнению приказа.
– Имя‑то у тебя есть, комиссар?
– Белая.
Деев так и не понял, имя это или фамилия. Переспрашивать не решился.
Была она старше его, но не так чтобы в матери годилась. Скорее, в старшие сёстры. Лицо имела красивое и строгое, хоть сейчас на плакат. Волосы – русые, коротко стриженные, кудрями во все стороны. А взор – начальственный, как у армейского командира. Под таким взглядом хотелось немедля вскочить и оправиться, но сдержался: не спеша пригладил чубчик (заодно смахнул со лба пару приставших подсолнечных шкурок), небрежно кинул тряпку в ведро (вода плеснулась через край и брызнула комиссару на ботинки) – да и остался на полу сидеть, эдак чуть развалясь.
– Тогда, может, с уборкой подсобишь, товарищ Белая? Или в хлеву повезём народ?
– Подсоблю, – ответила серьёзно. – Только ночью, когда дети спать будут.
– А мы с тобой, выходит, не будем? – снахальничал Деев. И не хотел вовсе дерзить, да язык‑дура ляпнул сам.
И тут же стыдно стало за нелепую эту сальность. Поднялся, отряхнул грязь с закатанных штанов и голых коленей. А когда распрямился – понял, что смотрит на гостью снизу вверх: комиссар Белая была выше на целых полголовы.
– Боюсь, Деев, спать нам не придётся, – сказа‑ ла, глядя в упор, и он рассмотрел наконец её глаза – холодно-серые, в прямых ресницах. – До самого Самарканда – не придётся.
* * *
Пару минут спустя он уже шагал рядом с Белой. Даже не шагал – строчил торопливо по мокрым от сеющего дождя путям, изо всех сил стараясь не поскользнуться и не пуститься бегом. Она ступала широко, через шпалу, даром что ноги имела по-девичьи тонкие, а фигуру лёг‑ кую, едва различимую под широкими складками бушлата, прихваченного в талии ремнём. Деев наблюдал стремительный ход её квадратных башмаков и думал о том, что под ними непременно должны скрываться маленькие и узкие ступни. Споткнулся, чертыхнулся – отогнал неподобающую мысль.
– Они попробуют увеличить квоту – не соглашайтесь! – Белая говорила быстро, не трудясь повернуть голову к собеседнику, а словно стреляя фразами вперёд, и ему пришлось ускорить шаг, чтобы расслышать указания. – Попробуют добавить больных под видом выздоравливающих – не соглашайтесь!
Деев никак не мог взять в толк, с кем ему не соглашаться. Иначе говоря, в кого так безжалостно стреляла словами комиссар?
– Начнут давить на жалость – валите всё на меня. Так и скажите: мол, эта Белая такая принципиальная и бессердечная, не сговориться с ней никак, просто не человек, а камень…
– Но начальник-то эшелона я, – на всякий случай напомнил Деев.
– Начальник вы, – согласилась Белая. – А валите всё на меня. А ещё лучше молчите, я сама всё скажу.
Вокзальными задворками вышли в город и скоро оказались в самом сердце его, где стоял на главной площади дворец из гранита и мрамора, с колоннами в три обхвата и окнами много выше человеческого роста – некогда Дворянское собрание, а ныне казанский эвакоприёмник номер один. Сюда из ближних и дальних уголков Красной Татарии свозили детей, кого не хотели или не могли прокормить родители; отсюда и ожидалась львиная часть пассажиров деевского эшелона.
Вблизи, однако, приёмник походил не на дворец, а на осаждённую крепость. Подвальные окна его были заколочены досками – наглухо, местами в два слоя, – а стрельчатые окна первого этажа убраны листовым железом и фанерой. Беломраморные колонны – в густой сетке из трещин. Стены – испещрены выбоинами так обильно, что казались возведёнными из необычайно рыхлого и пористого камня (Деев узнал эти щербины сразу: мелкие – от пуль, покрупнее – от снарядов). Здание глядело сурово и неприступно, словно вокруг ещё бушевала Гражданская война. От кого же оборонялись засевшие внутри? Неужели от осаждающих учреждение детей?
А они валялись повсюду – на гранитной входной лестнице, на расстеленных вдоль стен газетах – дюжина или полторы маленьких грязных тел, укутанных в тряпьё по самые брови и лениво-неподвижных под дождём. Деев наблюдал подобную картину не раз, но никогда не задумывался: отчего же дети лежат снаружи приёмника, а не внутри?
По пологому скату для конных повозок Белая поднялась к парадному входу и постучала. Ответа – нет. Постучала ещё раз, уже сильнее, подёргала плотно закрытые двери – и вновь без результата. Встала на цыпочки и грохнула пару раз ладонью о покрывающую оконный проём фанеру – едва не поранила руку о гвоздь.
Крепость хранила молчание. Лежащие у подножия дети – тоже.
Никто даже не шевельнулся. Несколько пар глаз с вялым любопытством следили за действиями женщины, и лишь один пацанёнок – мелкий, с коричневым от загара лицом, похожим на грязную картошину, – уселся поудобнее, чтобы не пропустить представление. К нему‑то Белая и обратилась.
– Почему не открывают? – спросила запросто, по-дружески.
Ни тебе властного тона, ни командирского взгляда, удивился Деев. А ведь умеет комиссар по-человечески разговаривать!
Пацанёнок помолчал немного, глядя мимо и вверх, откуда сыпались мелкие дождевые капли.
– Поздновато явились, – процедил нехотя. – Завтра уже приходите, с утра они добрее будут.
– Нам сейчас надо, – вздохнула Белая. – Может, есть ещё какой способ… Помоги.
И снова ответил не сразу, будто слова долетали до него издалека.
– А мне что с того будет?
– Расскажу, как устроиться в приёмник. Чтобы не под дверью тут христарадничать, штанами крыльцо протирать. А чтобы социальные сёстры сами тебя под локоток взяли и внутрь провели, умыли, накормили и на паёк поставили.
– Брешешь, – осклабился пацан мгновенно, показывая чёрные зубы.
– Сегодня в полночь на Устье облава: Деткомиссия и милиция будут чесать берег. Пойманных развезут по приёмникам. Так что всем, кто хочет под крышу и на паёк, быть на Устье до заката. А кто не хочет, пусть дует к чёртовой бабушке и не путается под ногами. Усёк? Передашь по своим.
Лицо-картошина смялось, недоверчиво поводя бровями и дёргая ноздрями.
– Нож мне в сердце, гвозди в глаз! – Белая ударила себя сжатой рукою в грудь, словно вонзая кинжал между рёбер, и лицо тотчас разгладилось, заулыбалось заговорщически. – А теперь помоги, – попросила Белая повторно.
Мальчишка встал – медленно, едва шевеля конечностями, будто двигаясь по речному дну, а не по суше, – и подошёл ко входным дверям. Повернулся к ним спиной и, вмиг утратив всю свою ленивую плавность, яростно заколотил пятками и кулаками; молотил так истово, что тяжёлое, крытое лаком дерево задрожало, а петли заскрипели.
– Шибче надо было колошматить, – пояснил, не прерываясь и чуть запыхавшись от громкой своей работы. – Их только упорством и возьмёшь!
– Сказано, нет мест! – разнеслось через минуту откуда-то сверху, из окна.
Но мальчишка всё колотил, не снижая напора, и скоро в одной из дверей щёлкнул ключ. Пацанёнок тотчас брызнул в сторону, и выскочившая из щели метла мазнула по воздуху.
– Вон отсюда, шантрапа! – показалась в открывшемся проёме необъятная женская фигура, помахивая метлой, как разящим мечом. – Вон, к лешему на рога!
– Что за цитадель вы тут устроили? – Белая говорила очень тихо и с такой угрозой, что у Деева захолодело в кишках. – Война давно закончилась.
– У кого закончилась, а у кого в самом разгаре, – не растерялась привратница. – Разнесут же учреждение! Не я виной, что их тут каждый день армия! И куда их всех?
Не говоря более ни слова, Белая сделала шаг вперёд, и огромная женщина отступила, опустила метлу. Деев юркнул следом – в плотную темноту здания с наглухо заколоченными окнами.
* * *
– Товарищи, вы к кому? – привратница всё ещё возилась у двери, запирая последний из нескольких замков и не попадая во тьме ключом в скважину. – Куда же вы, товарищи? Эй!
А Белая уже устремилась по широченной парадной лестнице вверх – туда, где брезжил со второго этажа свет. Деев поспешил было за комиссаром, но споткнулся обо что‑то мягкое – едва не упал. И снова споткнулся. И снова чуть не упал. Темнота вскрикнула тоненько, а затем пропищала насмешливо:
– Товарищи!
Разглядеть что‑либо во мраке было невозможно. Деев остановился, руками шаря перед собой – нащупал пару бритых макушек.
– Товарищи! – захихикало с другой стороны. – Куда же вы?
– На кудыкину гору! – откликнулось с третьей. – По кривому забору!
– Посмотреть на обжору!
– Или выпить кагору!
– Или слопать рокфору!
И вот уже сумрак наполнился голосами, смешками, вздохами.
– Налупить сутенёру!
– На кудыкину гору! – откликнулось с третьей. – По кривому забору!
– Посмотреть на обжору!
– Или выпить кагору!
– Или слопать рокфору! И вот уже сумрак наполнился голосами, смешками, вздохами.
– Налупить сутенёру!
– А ещё – прокурору!
– А ещё – полотёру!
– Без понта и фурору!
– Цыть! – рявкнула привратница где‑то у подножия лестницы.
Напрягая зрение и ощупывая пространство перед собой, Деев ринулся за Белой – сквозь толпу мальчишек, рассевшихся на ступенях. Ладони его скользили по стриженым головам, голени – по чьим‑то плечам и спинам. Больше всего боялся наступить на кого-нибудь, но детские тела были много быстрее – сами раздавались в стороны, открывая дорогу, как стая мальков рассыпается при виде приближающейся крупной рыбы.
Чем выше поднимался Деев, тем светлее делалось вокруг и тем плотнее становилась толпа. Скоро лестница разделилась на два рукава, каждый круто изгибался – один налево, другой направо – и вёл на второй этаж. Здесь уже можно было разглядеть глаза – карие, рыжие, чёрные, синие, цвета травы, – они с любопытством таращились отовсюду. Пацанята были мелкие и стриженные как на подбор. У одного, кажется, не было уха; но, может, это только почудилось в потёмках.
Второй этаж распахивался на две стороны просторным коридором. Широкие двери – когда‑то ярко-белые, в золотых вензелях, а ныне облупившиеся до тёмного дерева – вели во внутренние пространства. Из глубины коридора уже спешила к гостям крошечная дама в очках, по виду сотрудница приёмника. Но Белая – не дожидаясь женщины, а словно даже вопреки её торопливости – распахнула центральные двери и решительно вошла внутрь. Деев, сгорая от неловкости, шагнул следом. Не одному же ему объясняться за нахальное вторжение?
Вошёл – и обомлел: это был бальный зал. Сквозь огромные окна – почти все они имели целые стёкла, и только некоторые были заделаны тряпками – щедро лился дневной свет. Потолок был высок необычайно – пришлось заломить шею, чтобы обозреть гигантскую многоярусную люстру размером с паровоз (лампочки-свечи разбиты все до единой, а бронзовые загогулины целы). От люстры волнами разбегались по потолку гипсовые цветы и чёрные трещины. Там же, в вышине, парил ограждённый белыми перилами оркестровый балкон, от него тянулись вниз обшарпанные, но всё ещё изящные колонны.
Великое это пространство было забито ребятнёй до такой степени, что напоминало зал ожидания на вокзале. Подоконники устланы тряпьём и превращены в места для спанья; на каждом теснились по трое-четверо мальчуганов, иногда вповалку. Лежанками же служили и ящики, и чемоданы, и набитые чем‑то мешки, и составленные вплотную и притрушенные сеном стопки книг – они тянулись по паркету длиннющими рядами (книги были дорогие, в обложках из кожи или нарядного картона, очевидно, собрания сочинений). Кому не хватило спальных или сидячих мест, лежали прямо на полу, покрывая его плотным шевелящимся слоем грязновато-бледных конечностей и тощих лиц.
На вошедших никто не обратил внимания: обитатели приёмника глазели в окна, резались в карты, болтали, дрыхли, выкусывали вшей, просто таращились бездумно в потолок. Никогда ещё Деев не видел столько детей, собранных вместе. От обилия голых пяток и одинаковых, стриженных наголо затылков зарябило в глазах. Гул голосов заполнил уши:
– Не впервой нам было собачатину лопать – бывальщина! И ничего, натрескались от пуза, не померли…
– Мать моя тогда при смерти была, ей уже земля коготки свои чёрные показала…
– Что ты, паря, меня исповедуешь?! Захочется – тебя не спросится. Мы уже пальцы мазаные, сплетуем – блоха не учует…
– О пресвятая дева, мати Господа, царица небесе и земли! Вонми многоболезненному моему воздыханию…
– Кормят-то и здесь паршиво: ешь – вода, пей – вода, срать не будешь никогда…
– Да твой Мозжухин против моего Дугласа Фэрбенкса – мышь против слона!..
– Когда станут меня драть, вспомню милым словом мать…
– Эх, говорю ей, сестрица, больно важно вы едите, ну прямо как Ленин…
– Товарищи! Вы от Наркомпроса?
Женщина в очках запыхалась от короткой пробежки (вблизи Деев увидел, что уложенные в пук жидкие волосы её совершенно седые, а худоба организма уже не молодая, а старческая). Но Белая и не думала останавливаться – стремительно шагала между раскинувшимися по полу мальчишескими телами, вертя головой во все стороны.
– Моя фамилия Шапиро. – Женщина обогнала Деева и кое‑как приспособилась к быстрому ходу Белой, затрусила рядом, пытаясь заглянуть в лицо странной гостье. – Заведующая Шапиро.
– Общая численность детей в приёмнике? – Белая заговорила крайне суровым тоном, словно заранее обвиняя за любой ответ.
– Четыреста пятьдесят человек. – Заведующая на ходу сдёрнула очки и протёрла о подол вязаной кофты, видно надеясь через чистые линзы лучше рассмотреть пришелицу. – Но после обеда будет больше, ждём обоза с Елабуги.
– Из них здоровых?
– Смотря кого называть здоровыми. В лазарете и на карантине – сорок семь детей… – Лицо заведующей выражало всё большее смятение, а дыхание становилось всё резче от быстрой ходьбы. – Или вы от Наркомздрава?
Неправильно было заставлять пожилого человека так спешить. Понимала ли это Белая? Кажется, нет – не понимала. Или наоборот – понимала прекрасно?
– Из общего количества здоровых – сколько детей старше пяти лет?
– Около двух третей… Но позвольте… всё же узнать… – Шапиро уже с трудом переводила дух. – Товарищ?..
Дееву стало стыдно.
– Белая, – представил он спутницу. – Комиссар Белая из Деткомиссии.
– Деткомиссия! – воссияла мгновенно Шапиро, позабыв про одышку. – Наконец-то вы о нас вспомнили! Мы же без вас гибнем, гибнем… Что вы же не предупредили? Я бы и цифры все свела, и перечень вопросов составила, чтобы не впопыхах…
– А вы не торопитесь. – Белая разглядывала окна и простенки между ними: дождь снаружи усилился, и по обшарпанной штукатурке уже бежали на паркет крупные капли.
Разглядывала не просто так: давала понять, что видит и порицает. Удивительная всё же манера не только слова свои, но и жесты, и даже молчаливые взгляды превращать в укор! Не женщина – ехидна.
– Ну, во-первых, конечно, помещения, – начала Шапиро вдохновенно. – Вы же сами видите, в каких мы условиях! Они в Наркомпросе считают, что дали нам дворец – и всё, дело сделано! А жить в этом дворце – как? Об этом они подумали? Учиться – как? А спать? А болеть? В таких условиях детям не место.
– И правда, – поддакнул Деев (уж очень хотелось помочь бедной заведующей). – Кровати-то где?
– В Дворянском собрании не спали, товарищ. – Шапиро назидательно мотнула головой. – Здесь балы танцевали и пиры пировали. Вот самая приличная наша кровать.
Она хлопнула ладонью по уличной скамейке, явно принесённой из какого-то парка: на ней копошилась куча малышни, укрытая шёлковой скатертью с кистями – засаленной донельзя и давно утратившей цвет.
– А у меня что ни день, то новый обоз! И куда их селить, всех эвакуированных? – Шапиро трагически раскинула худенькие старушечьи ручки и мгновенно сделалась похожа на испуганного паучка. – А ещё каждый день – подкидыши. Мы уже и объявление на дверь вешали: «Большая просьба всех младенцев нести сразу в Дом малютки!» И адрес указывали. Но мамаши пошли то ли неграмотные, то ли упрямые: каждое утро на ступенях – один‑два кукушонка, а то все три…
Деев почувствовал на себе чей‑то взгляд. Обернулся – через стёкла многостворчатой балконной двери смотрели на него несколько гипсовых статуй; верно, их вынесли на балкон за ненужностью. У некоторых были отбиты носы. По неподвижным лицам статуй струилась дождевая вода.
– …А ещё же каждый день – самоход, человек по десять-пятнадцать. Идут и идут, идут и идут. И ведь не только Татария идёт – сюда и Чувашия идёт, и Мордовия идёт, и немцы из‑под Саратова идут, на днях вот Калмыкия пришла. Подростка, положим, я не впущу. А малыша-трёхлетку? Сердца не хватит отказать.
– Это вы от излишней сердечности окна железом заколотили? – Обойдя зал, Белая развернулась и энергично зашагала к выходу, словно была здесь хозяйкой и сама вела гостей по учреждению. Неприятно было – аж челюсти хрустнули – от резкости тона и грубости поведения спутницы. Не детский комиссар, а фельдфебель на плацу!
– Ну зачем вы так? – Шапиро едва поспевала за Белой. – Первый этаж и подвалы нежилые вовсе, там даже скот держать нельзя: зимой на стенах иней с палец толщиной, а весной и осенью воды по колено. Окна‑то без стёкол, с самой войны. И камины не работают, и канализация забита. Вот если бы Деткомиссия помогла…
Странный протяжный звук прервал разговор: нёсся откуда-то сверху, из‑под потолка – Дееву показалось в первый миг, что это сирена. Но нет, это ребёнок выл – не плакал, а именно выл – отчаянно и долго, лишь изредка прерываясь для вдоха и поскуливая. Даже Белая остановилась и обернулась на звук. Заведующая, однако, только рукой махнула устало: – Не обращайте внимания, это Сеня-чувашин. Скоро успокоится.
* * *
Вой не спадал – и пока гости покидали бальный зал, и пока шли по коридору, и пока заходили в соседнюю комнату. Шапиро прикрыла двери, чтобы звук не мешал, – голос проникал и сквозь стены.
Но едва попав в новое пространство, Деев позабыл про Сеню, так ошеломил его этот следующий зал. Вероятно, когда‑то это была парадная столовая. Сейчас её населяли девочки. Здесь были те же самодельные лежанки – из книг, обломков мебели, картонных коробок, та же скученность и теснота, те же костлявые тела и босые ноги – уже не мальчишеские, а девчачьи. А над всем этим царила еда.
Потолок был расписан ярко и щедро, с какой‑то чрезвычайной натуральностью. По периметру – виноградные листья, поверх красовались огромные, подсвеченные солнечными лучами гроздья. Тут же рассыпались и розовые яблоки, и почти прозрачные на свет медовые груши. По горам абрикосов и персиков порхали бабочки, а лимоны с наполовину снятой кожурой влажно блестели и едва не капали соком.
Стены – гигантские картины. Жареная дичь, бледно-розовые в разрезе окорока, устрицы, надщипанный хлеб и ополовиненные бокалы с вином – всё это было немыслимых размеров и в прекрасном состоянии: ни трещины, ни плесень не брали это мощное изобилие – фрески сияли, будто написанные вчера.
Здесь было очень тихо: придавленные невероятным пространством, девочки лежали смирно, беседовали еле слышно (даже Сеня-чувашин перестал кричать). Деев заметил, как одна пыталась отколупнуть кусочек нарисованного мяса со стены, но не сумела: слой краски был толст и крепок, а девчоночий пальчик – слаб.
Хотел было задать вопрос, но только крякнул досадливо, осматривая раскинувшуюся над головой фруктовую тучу.
– Говорю же, нет помещений, – вздохнула Шапиро.
– А нельзя ли как-нибудь замазать эти…
– Деев поморщился, подыскивая слово, – …художества?
– Чем? Углём? У меня и того нет.
– С помещениями понятно, – прервала их Белая. – Что ещё беспокоит?
На гладком красивом лице её Деев не заметил и следа волнения: комиссар взирала на бушующее вокруг кулинарное безумие и съежившихся под ним детей совершенно спокойно. Странное она всё же имела душевное устройство: то вскипает на ровном месте, а то сухарь сухарём, словно и не сердце в груди, а кусок замороженной рыбы. Протекающие стены и забитые фанерой окна, значит, её волнуют. А му́ ки детей, живущих в окружении нарисованной еды, – нет?
– Во-вторых, конечно, питание, – с готовностью откликнулась Шапиро, указывая сухонькими лапками на живописные продукты. – Я всё понимаю: разруха, голод, время тяжёлое. Но зачем же мы их эвакуируем, если накормить не можем? Рубль в неделю на ребёнка – где это видано? Чем я накормлю его на рубль? Мельничной пылью? Шелухой овсяной? А ведь его не только кормить нужно – ещё и лечить, и согревать. Это уже в-третьих.
Она кивнула на камин в углу – широченный, из чугуна и мрамора, – у подножия которого валялось несколько обломанных веток и рваные газеты. В каминной пасти стояло жестяное ведро, куда из дымохода капала изредка вода – верно, от идущего снаружи дождя.
– Дворец… – Морщинистые щёчки Шапиро зарумянились от возмущения, да и вся она, кажется, разгорячилась от этого разговора; кофта её распахнулась, движения сделались размашистей. – Они в Наркомпросе подумали, сколько дров нужно, чтобы дворец этот хотя бы раз протопить? У нас зимой по бальному залу позёмка кружит!
Внезапно Деев почувствовал, что озяб за проведённые в приёмнике полчаса: пожалуй, здесь было ничуть не теплее, чем на улице. Написанные на потолке солнечные лучи – не грели.
– Ну, дрова‑то стребовать легче, чем деньги или помещения. – Белая опять перешла на прокурорский тон.
– Просила! Всю бумагу на них извела!
– Значит, надо было не писать, а прийти в соцвос, к заведующему, и не выпускать его из кабинета, пока не даст пару обозов с дровами. Заточенный карандаш этой сволочи вот сюда приставить, – Белая ткнула себя пальцем в то место, где у мужчин обычно выпирает кадык, – а второй карандаш в руку ему сунуть: пусть подписывает! И пригрозить, что иначе в ЧК пожалуетесь – на его халатность и вражеское отношение к детям!
По какой‑то особенной прозвучавшей ноте понял Деев: комиссар поступала так сама, и, возможно, не раз.
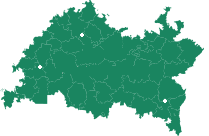

Добавить комментарий