
Первый и последний день войны в истории жизни агента «Красивая»
На столетие к Самре Бикмеевой приходил сам Рустам Минниханов, Раис Татарстана. Поздравлял, слушал истории из её жизни – сторителинги, как сейчас говорят. Их у неё за сто лет накопилось много. Все они умещаются в одну долгую жизнь – жизнь младшего лейтенанта медицинской службы 86‑й отдельной роты Медицинского усиления, медсестры Казанского госпиталя и разведчицы внешней разведки с агентурным позывным «Красивая». Сегодня перед вами главы из одноимённой книги, рассказывающие о первом и последнем дне войны в её жизни.
18 мая 2025
КРАСИВАЯ
(Печатается в сокращении)
За свои сто лет жизни Самра Бикмеева сменила много имён. Не по собственной воле. Сначала красивое татарское имя Самира, данное ей родителями при рождении, неправильно записали при регистрации. Во время учёбы в фельдшерско-акушерской школе в Казани одногруппники переименовали её в Светлану – и имя тоже прижилось на несколько лет. На войне, в госпитале, Самру, недолго думая, окрестили Сонечкой. После войны разведчица внешней разведки НКВД Самра Бикмеева с каждой легендой получала новое имя, созвучное той стране, в которую её «забрасывали»: Милена, Элишка, Мэри...
И только для своих родных и близких она всегда оставалась Самирой…

ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА
Май 45‑го Самра встречала в Берлине. Пахло весной и Победой. Настроение было лёгким, как весенний ветерок. Самре с двумя напарницами выпало два часа свободного времени, и они устроили экскурсию по городу. Вернее, по руинам города. Но это были не те руины, что они наблюдали на протяжении всей войны в разных городах и сёлах. Это были последние руины в этой войне – Самра была в этом уверена. Далеко впереди всё ещё бомбили, брали рейхстаг. Ходили слухи, что Гитлер покончил с собой, а генерал Чуйков ведёт переговоры с немецким генералом Кребсом о безоговорочной капитуляции. В районе Ангальтского вокзала наши войска взрывают метро, чтобы выбить оттуда противника, а здесь, на окраине, в районе Гёрлицкого вокзала, в здании которого расположился госпиталь, было, можно сказать, даже тихо. Непривычно тихо, особенно после последнего месяца непрерывной бомбёжки – решающей операции, которая называлась «Взятие Берлина».
Пётр Моисеич, старенький полковник медицинской службы, вытирая рукавом неделю не спавшие воспалённые глаза, выпроваживал Самру, которую в госпитале все называли Сонечкой, с подругами на улицу:
– Сонечка, Машенька, Анюта, идите-идите, лейтенанточки мои, подышите весной, хватит уж этим смрадом дышать, мы тут управимся без вас. Осторожно только.
– А ты чего там прячешься?! – крикнул он выглянувшему из‑за угла хромоногому солдатику. – Доставай свою «Лейку», сними наших красавиц – смотри какие невесты!
Солдатик козырнул и похромал в госпиталь за фотокамерой.
– Сейчас вылетит птичка! – предупредил он девушек и спрятался под чёрным пыльным покрывалом. – Готово! – вместе со вспышкой прогремело оттуда. Щурясь на солнечный свет, солдатик вылез из‑под своего укрытия и важно произнёс:
– Фотокарточки сразу после войны получите.
– А если «после войны» уже завтра наступит? – засмеялись девушки.
– Значит, завтра получите, – сконфузился солдатик.
– Будет у меня две фотокарточки, – печально улыбнулась Сонечка и похлопала себя ладошкой по нагрудному карману.
– Что там? Покажи-покажи! – запрыгала вокруг Маша.
Сонечка вытащила из кармана снимок, аккуратно завёрнутый в газету. С него смотрел и улыбался симпатичный светленький парень с веснушками на курносом носу.
– Это Миша, мой муж. Он погиб полтора года назад, – предупреждая всякие расспросы, сказала Сонечка.
Любопытная Аня перевернула карточку и вслух прочла надпись, сделанную химическим карандашом:
«Сонечке.
Нас связала война. Помни мой дикий характер».
– Это он назвал меня Сонечкой. На самом деле по-татарски меня зовут Самра. Мишка сказал, что «Самру» ему трудно выговаривать. Вообще-то, правильное имя Самира, но кто-то, пока ехал регистрировать меня в райцентр, букву потерял... – развела руками Сонечка.
– У него был дикий характер? – История про любовь была интереснее Маше, чем история про пропавшую букву.
– Очень ревнивый, – улыбнулась Сонечка. – Всегда говорил, что, если увидит, как кто‑то пытается ко мне подойти с какими-либо мужицкими намерениями, он за себя не отвечает, у него дикий характер, застрелит без разговоров.
Они шли по какой‑то там немецкой штрассе, и Сонечка рассказывала про Мишу – воспоминания всплывали одно за другим. Они уже не были такими болезненными, скорее, просто светлыми и успокаивающими. Она впервые с тех страшных дней вот так вот вываливала про себя всю подноготную. Девушке, которую знала всего два месяца. Ни одного свидетеля её недолгого семейного счастья не осталось в живых. Да и сама она всё это время просто не позволяла себе об этом думать и вспоминать. И смотреть на эту карточку тоже не позволяла. Только окровавленные пули, гнойные бинты, операции на простреленные глаза, оторванные носы, разорванные рты, развороченные челюсти... Вот на всё это смотреть себе она позволяла, и даже заставляла, работая за операционным столом по 25 часов в сутки из существующих 24-х. Ей даже нравилось такое изматывающее состояние, когда сон урывками по 15 минут, сидя где-нибудь в уголке: чтобы не думать, не плакать, не выть, не осознавать, что того человека и той жизни больше нет.
– Миша подорвался на мине, сразу умер, не мучился, – сказала Сонечка тихо. И добавила ещё тише: – А на следующий день я родила нашего мёртвого сына. Сейчас ему было бы полтора годика.
Они присели на каменную ногу от какого-то рухнувшего памятника. И молча уставились на обломок стены, из‑за которого, крадучись, вдруг выскочил фриц – он тащил за шкирку ребёнка. Маленькое измождённое создание с босыми ножками-прутиками, болтавшимися из‑под какой‑то рваной одёжки, покорно висело в фашистской руке, как тряпичная кукла. Сонечка вскочила и как тигрица набросилась на немца. Вцепилась ему в волосы, в шею, в кадык, колотила его кулаками, царапала лицо… Фашист от неожиданности упал и выронил ребёнка, Маша едва успела его подхватить. Когда немец очухался, он всей своей тушей навалился на Сонечку и занёс над ней грязный кулак. Аня завизжала, повисла на руке немца, выстрел утонул в её визге, фриц с прострелянной головой свалился с Сонечки и залил кровью ей весь сапог. Дальше за ноги его уже оттащил советский солдат и отшвырнул в канаву.
– Как ты? – спросил он Сонечку, помогая ей подняться. Её трясло.
– Спасибо вам, – кивнула она быстро и поспешила к ребёнку.
Тот, видимо привыкший к бомбёжкам и подобному обращению, лежал тихо‑тихо с закрытыми глазами. Ножки и ручки его были ледяными.
Сонечка, не стесняясь солдата, расстегнула гимнастёрку и засунула ребёнка к себе за пазуху. Солдат достал из вещмешка несколько кусочков сахара и протянул ей.
– На, дай ему.
Ребёнок жадно присосался к сахару, урча, как зверёныш.
Из глаз девушек хлынули слёзы.
– Откуда только берутся такие нелюди! – вытирая глаза, сказала Маша. – Как они могут так с малыми дитятками?
– Эх, милая, они много чё могут! Лучше вам не знать, чё они могут, – вздохнул солдат. – Ваше счастье, что вы ещё в концлагере не бывали. Им за всё это прощения не будет ни от Бога, ни от Аллаха. Скоро им всем капут, как и их Гитлеру, – грозно пообещал солдат. И добавил уже совсем не грозно: – Меня Гази зовут.
Можно просто Гена.
Сонечка встрепенулась:
– Это наше, татарское имя!
– Да, я башкирский татарин, из Башкирии, – подтвердил солдат. – А ты, смотрю, тоже чернявенькая...
– Да, я татарская татарка. Из Татарии, – и оба засмеялись.
– Ну что, кызлар*, не знаете, где здесь госпиталь? Туда путь держал, пока вас не встретил.
Чиркнуло меня чуток, пока знамя на рейхстаге закрепляли.
– Закрепили? – Сонечка только сейчас заметила, что череп за ухом у Гази, как и рука, в запёкшейся крови. – Пойдёмте скорее, госпиталь здесь, рядом.
Пока Маша занималась ребёнком, отмывая его в тазике с тёплой водой, Сонечка занималась раной Гази. Попав в руки врачей, он сразу будто обмяк, поднялась температура, он заметался по кушетке, перестал узнавать Самру, ухо распухло и стало пунцово-лилового цвета.
– Пётр Моисеич, похоже, у него там осколок остался... – сказала Сонечка.
– Быстро на стол! Ухо? Сама сможешь?
– Так точно!
– Сама! Действуй! – отрывисто отдавал команды хирург.
***
Утром, когда жар спал, Гази открыл глаза и в свете солнечных лучей, пробивающихся сквозь гигантские пыльные стёкла вокзального госпиталя, увидел перед собой вполне мирную картину: медсестру Машу с чистеньким ребёнком на руках, завёрнутым в одеяло.
– Как он? – спросил Гази, кивнув на ребёнка, и тут же поморщился от своего кивка.
– У него всё хорошо, – Маша чмокнула малыша в щёку. – Сейчас с Сонечкой будем имя ему придумывать. Это она вам вчера осколок из‑за уха извлекла. Помните? Она у нас мастер по ювелирным работам на лице.
Сейчас вон нос кому‑то пришивает...
– Маша, сюда! – крикнули откуда-то справа. – Бинты давай!
– Ой, посмотрите за ним, Геночка! – Маша бережно положила ребёнка под бок к раненому и убежала, крикнув: – Я сейчас!
– Полежим, брат? – подтыкая одеяло под мальчика, спросил Гази. – Им сейчас не до нас. А мы хоть чуток в тепле отдохнём, касторкой подышим, а не войной.
Ребёнок зевнул и послушно закрыл глаза.
– Эк, как тебя вымуштровало-то, – вздохнул Гази. – Будто и не ребёнок вовсе: и не пискнет, и не заплачет, и не улыбнётся. Зашугали дитёнка фрицы проклятые!
– Не забудьте покормить своего найдёныша, – сказал Пётр Моисеич. – А то он там пригрелся около солдатика, сам не попросит еды, не приученный, эх... До чего детей довели – кушать не просят! – он отвернулся, чтобы присутствующие не увидели его слёз.
– Сонь, как ты хотела сына своего назвать? – спросила Маша, отправляя кашу в рот малышу.
– Миша Иваном хотел назвать, – ответила Сонечка шёпотом. – Иваном Михайловичем.
– Вот Иваном и назовём. Да, Иванушка? Можем и Михайловичем записать, кто нам запретит?
Сонечка посмотрела на неё с благодарностью.

НОВОЕ ЗАДАНИЕ
Этим утром Самра проснулась с неясным ощущением тревоги. На фоне всего происходящего оно было странным и необъяснимым. Германия капитулировала. Кругом кричали о победе. Народ в госпитале пребывал в эйфории, ликовал и вовсю собирался домой. Больные стремительно шли на поправку – настолько велика была исцеляющая сила осознания того, что война закончилась и теперь всё будет хорошо. Все предвкушали встречу с родными. Даже те, у кого отсутствовали руки или ноги. У Самры внутри всё сжималось от радости, она увидит папу, родные Кильдуразы. И больше не будет этой грязи, этих неистребимых вшей, этих бомбёжек, этих ужасных переходов ползком по мёрзлой земле – больше не будет войны!
Машу уже демобилизовали. Радостно щебеча, она паковала в вещмешок пелёнки, нарезанные из больничных простыней, и периодически подбегала к Иванушке, нашёптывая ему что‑то на ушко и приговаривая, что скоро они будут дома, в Пскове. Гази с улыбкой наблюдал за этими приготовлениями, он был почти здоров и заверил всех, что поедет провожать Машу с ребёнком до Пскова.
– А то мало ли что, – добавлял он, как бы в оправдание. – С ребёнком-то тяжело через границу пробираться.
Прощаясь с Сонечкой, он сказал:
– Ну что, татарская татарка, может, свидимся ещё, может, найдёмся. А если не найдёмся, вспоминай иногда башкирского татарина, который наше знамя на рейхстаг повесил!
– Сонечка, как демобилизуют, приезжай к нам, в Псков, мы с Иванушкой будем ждать тебя. Все трое ждать будем, – украдкой глянула она на Гази и покраснела.
– Чего уж там, будем ждать, – подтвердил Гази, дёргая себя за усы в смущении. – Думал, никого у меня на этом свете не осталось, а, оказывается, вот они, целая семья. Он обнял Машу, взял у неё вещмешок и ребёнка и вышел из госпиталя, оставив девушек прощаться.
– Вот уезжаем, – развела руками Маша, как бы в оправдание. – И Аня уехала. А ты когда домой, Сонечка? Что обещают? – уткнувшись в плечо подруги, спрашивала Маша.
– Не знаю пока. Нет приказа, не говорят, – вздохнула Соня. – Скорее бы домой. Пиши мне, Маша.
– И ты пиши, ждать тебя будем, приезжай в Псков, – и она засунула ей в карман гимнастёрки клочок газеты с накарябанным на нём адресом.
***
Маша уехала. Раненые не поступали. Сонечка сидела на подоконнике и, несмотря на царившее вокруг победное настроение, чувствовала, что что‑то не так. Какая‑то неясная тревога не давала почувствовать радость победы в полной мере, что‑то неприятное витало в воздухе. К обеду стало ясно, что именно. Когда в накинутом на плечи халате к ней подошёл чужой майор. Не из их госпиталя. Самра узнала эту выправку и это выражение лица – люди с такими лицами не знали бомбёжек и окопной жизни. Их щёки всегда были гладко выбриты, а одежда опрятна, несмотря ни на что, даже на рвущиеся вокруг снаряды и падающие прямо на них комья земли. С некоторых пор, когда первого такого подтянутого офицера она повстречала в эшелоне, в котором госпиталь двигался на фронт, она поняла, что такие товарищи будут жить теперь с ней параллельно. И управлять её личной жизнью по своему разумению.
Тогда, в момент первой встречи с подобным индивидуумом, ей было всё равно. Она только что потеряла Мишу и сына, и собственная жизнь для неё утратила всякий смысл. У неё не было желания отомстить фашистам за эти две смерти родных людей, как обязан был хотеть каждый советский человек. Она потеряла и к жизни, и к борьбе, и к победе всякий интерес. Она хотела только одного, чтобы её убили, чтобы жизнь её закончилась и всё вокруг исчезло. Чтобы не видеть и не слышать ничего, не чувствовать эту непрекращающуюся боль вечной утраты.
Тут и появился он – некий подполковник Анисимов предложил ей сотрудничать с КГБ. Она кивнула – ей было всё равно. Он дал какое‑то «лёгкое» задание – проследить за новым хирургом, которого только что назначили главврачом вместо погибшего полковника Зверева. Тогда она даже не поняла, что её завербовали – слова‑то такого даже не знала. «Ты просто должна помочь, – вкрадчиво прошелестел Анисимов. – И доложить мне, если узнаешь что‑то подозрительное. Я в соседнем вагоне...»
А сейчас...
– Добрый день, Самра Сабировна! – прервал её мысли майор, по типажу очень похожий на того самого первого Анисимова. – С Победой вас!
– Вас тоже! – прошептала Сонечка, успевшая за годы войны отвыкнуть от своего настоящего имени.
– Возвращение домой пока откладывается, – развёл он руками. – Не все враги ещё побеждены. Родине нужна наша, разумеется, и ваша помощь. Через два часа вам надлежит быть готовой, мы с вами отправляемся в Румынию.
– В Румынию? – удивилась Самра.
– Угу, – кивнул майор. – Вы ведь не были в Румынии?
Самра замотала головой.
– Вот видите, вам представляется возможность увидеть эту страну. Войны там нет. Но не спокойно. Наша армия наводит там порядок.
Как, впрочем, и по всей Европе. Надо очистить её от фашистов, которые разбежались по всем соседним странам, как тараканы. Страны-то у них маленькие, не то что наша! Из страны до страны – как от Москвы до Ленинграда добраться... Это наш долг – помочь румынам и прочим народам наладить мирную жизнь.
Я жду вас в машине.
И майор откозырял, дав возможность девушке собраться.
– Тук-тук-тук! – отодвинул натянутую простыню Пётр Моисеич. – Можно?
– Конечно, Пётр Моисеич! – Она подвинулась на краешек кровати, освобождая место доктору.
– Покидаешь нас, значит, Сонечка? – спросил он, кивнув на удаляющуюся спину майора.
Она печально вздохнула:
– Так хочется домой.
– Это понятно. Но мы, военные, себе не принадлежим. Надеюсь, там тебя ненадолго задержат...
Пётр Моисеич немного помолчал, а потом ласково погладил её по руке своей гладкой, отполированной вечным мытьём ладонью. – Спасибо тебе, Сонечка! – тихо сказал он.
– За что?
– За то, что ты хороший человек. За то, что тебе можно доверять. За то, что ты никому никогда ничего плохого не сделаешь, как бы ни хотели этого некоторые специальные люди.
Ты выйдешь из любой ситуации с честью, потому что у тебя доброе сердце и правильное представление о жизни. Оно поможет тебе всегда оставаться человеком.
Они попрощались. И через два часа Сонечка уже ехала в Румынию.
ПРАКТИКА
Война началась в каникулы. Самра с Наилёй сдали все зачёты и собирались поехать в деревню просить прощения у отца за то, что сбежали в Казань учиться, а не остались в деревне. Сейчас им было чем похвалиться перед ним и загладить свою вину. Они почти окончили фельдшерско-акушерскую школу. У них будет хорошая, а главное, нужная профессия. У Самры – так уже на будущий год. И если не дай бог с кем-нибудь из родных приключится болезнь, они всегда смогут помочь.
– Как ты думаешь, папа нас простит? – с надеждой спросила старшую сестру младшая.
– Думаю, простит, – сказала Самра. – Ведь мы же сбежали не для того, чтобы за неправоверного замуж выйти. Вот за такое он бы никогда не простил. А так... Не сразу, конечно, но простит – он же нас любит.
– А мы его, – добавила Наиля.
– А мы его, – подтвердила Самра.
Когда все вещи в мешок были уложены, в комнату влетела соседка Люська-сорока, которую прозвали так за то, что она всегда все новости и сплетни первой узнавала и тут же на «хвосте» разносила их по всему общежитию.
– Света! Надя! Вы здесь?! – Распахнула дверь Люська и прижала руки к груди.
– Мы здесь. Где ж нам ещё быть? – ответила Самра, которую в общежитии переименовали в Светлану. – Что опять случилось у тебя?
– Дышите глубже, больная! – засмеялась Надя-Наиля.
– Война, девочки... – прошептала Люська и сползла по стенке на пол. – Нас всех мобилизуют. Мы будем на войне медсёстрами. Будем лечить раненых. Собирать их под бомбами. Такая у нас будет практика.
– Какая ещё война? – насмешливо хмыкнула Надя. – Хватит уж тебе, Люсь, болтать всякую ерунду.
– Это не ерунда! Если хочешь, побожусь! – Люська быстро-быстро перекрестилась, с опаской косясь на дверь. – Уже все знают. Сегодня рано утром война с немцами началась. А нас сейчас в главной зале всех собирают. Вот я за вами прибежала. Пойдёмте быстрее...
Люська ещё чего‑то тараторила, Светлана её больше не слушала, подошла к окну. Народ суетливо бегал туда-сюда, основной поток спешил к остановке трамвая. Многие, не дожидаясь трамвая, быстро шли вдоль трамвайных путей.
– Все на площадь торопятся, – подошла сзади Люська. – Там по репродуктору объявляют про войну. А нам вниз надо, в залу, пойдёмте быстрее.
У Светланы часто‑часто застучало сердце. Как всегда, когда надвигалось что‑то нехорошее, неизбежное. Так было, когда их, детей «врага народа», выселяли из родного тёплого дома в нетопленую баню. Так будет потом много раз. Чтобы избавиться от нарастающего чувства тревоги, она стала быстро-быстро «перелистывать страницы» своего счастливого детства – того самого, которое было у неё до ареста отца.
ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН
События разворачивались настолько стремительно, что Светлана и опомниться не успела, как оказалась в первом эшелоне санитарного поезда.
– Первый эшелон всегда идёт первым после сражения, – втолковывал им майор медицинской службы Курбаев перед отправкой на фронт. – Ваше дело – собирать раненых и доставлять их в вагоны. Как угодно: волоком по земле, верхом на спине, на носилках, на собственной шинели – значения не имеет. Главное – доставить в госпиталь и оказать помощь. Собираете только тяжело раненых. Это понятно? Только своих. Это, надеюсь, тоже понятно?!
Светлана подняла, как в школе на уроке, руку.
– Что у вас? – недовольно спросил майор.
– А как же быть с нетяжелоранеными? Оставлять их умирать? – спросила Светлана с вызовом, делая акцент на частице «НЕ».
– Их забирает следующий эшелон, который идёт следом за нами. У тех, кто нетяжело ранен, есть силы дождаться второго эшелона. Мы спасаем только тех, кто уже не в силах ждать.
Это понятно?
– А раненые немцы? – опять подняла руку Светлана.
– Их заберут в третью очередь, – поморщился майор. – Не волнуйтесь, сержант Бикмеева.
Несмотря на то что они вероломно напали на нашу страну, медицинская помощь им будет оказана. Только потом эти нападатели отправятся прямиком в плен. По закону военного времени. Это понятно?
– А наши?
– А наши – снова на фронт. Поэтому задача медицины – всех вылечить. Это понятно?
Светлана кивнула.
– Это будет ваша самая лучшая практика, – горько усмехнулся майор. – Вы познакомитесь с самыми невероятными травмами. Вы научитесь обрабатывать самые ужасные раны. Вы научитесь извлекать пули, находить в человеческих недрах осколки бомб, штопать раны от разорвавшихся мин, ампутировать конечности без наркоза. Вы будете уметь всё. Если выживете. Самые лучшие медицинские специалисты получаются из тех, кто прошёл войну. Проверено в Гражданскую.
Майора убили в первый месяц войны, когда их эшелон попал под бомбёжку, он так и погиб за хирургическим столом со скальпелем в руке, уткнувшись лицом в разрезанный живот оперируемого им солдата. Вместе с солдатом. Их похоронили в одной, наспех выкопанной могиле на маленькой безымянной станции.
Светлана вспоминала его слова каждый раз, когда приходилось ползти под огнём по полю и волочь за собой смертельно раненного солдата. Она выбирала только тяжелораненых, наспех послушав пульс, заглянув в глаза и взвалив на себя очередного «неприподъёмного» обездвиженного солдата. Отворачиваясь от тех, кто протягивал к ней руки, полз за ней, прося о помощи.
– Сейчас за вами Наденька придёт, – обещала она таким. – Она идёт со вторым эшелоном. Она вам поможет. Она моя сестрёнка, она вас заберёт и вылечит. Я только тяжелораненых беру, простите…
СПАСЕНИЕ ВРАГА
…Светлана почти перестала ощущать тяжесть солдата, которого волокла на себе по вязкой ноябрьской жиже. Холод перестал пронизывать до костей, перестало ощущаться хлюпанье холодной воды в сапогах, она почти уже попала в то детское лето 1927 года, когда ей было всего шесть лет, а вокруг зеленела трава и цвели жёлтые горошины одуванчиков, как картину развеяло нечто страшное, вернув Светлану в холод, в войну, в ноябрь. Человеческое лицо смотрело на неё из грязи, воспалённые небесного цвета глаза молили о помощи. Все остальные части тела были погребены под толстым слоем грязи и, очевидно, довольно давно. Сверху видны были следы колёс от проехавшей по этому месту телеги. Проехавшей прямо по человеку. В стороне от лица, опять же из‑под слоя грязи, торчала кисть руки, в которой копошились черви. Человека заживо съедали черви. Светлану от этого зрелища затошнило и вырвало. Замотав платком лицо, она принялась откапывать солдата, разгребая густую грязь руками. Он что‑то бормотал, что именно – разобрать она не могла.
Когда раскопки были закончены, она увидела на форме солдата свастику. Раненый был немецким солдатом. Он продолжал умоляюще смотреть на неё.
– Ты враг! Ты напал на нашу землю! – сказала она, отползая, но так и не смогла отвести глаз. Немец был слишком юным. И ей, побывавшей в шкуре врага народа, претило бросить его здесь догнивать. Слово «враг» вызывало у неё другие ассоциации. Детские. Те, которые хуже войны. Те, которые упорно напоминали ей то время, когда она сама была «врагом народа» и все от неё отворачивались так же, как сейчас отворачивается от беспомощного немца она.
Светлана оглянулась. К ней ковыляла помощь: пятнистый чёрно‑белый бычок, запряжённый в телегу, на которой лежали и стонали пять раненых. Обычно колхозники близлежащих деревень выделяли для помощи передвижным госпиталям коров, но в этот раз запрягли молодого бычка.
Светлана яростно и быстро отодрала нашивку со свастикой от рукава солдата и замахала рукой вознице:
– Сюда давай!
Бычок подошёл ближе и послушно ждал, когда Светланиных раненых погрузят на телегу. Светлана погладила животное по худому боку:
– Сейчас, Бодун, пойдём разносить почту, – пробормотала она.
Бычок, пережёвывая жвачку, понимающе посмотрел на неё.
Повозка тронулась. Она шла следом за телегой и всё не сводила глаз со свисающей с телеги руки откопанного ею солдата – её никак не хотели покидать черви.
Первым делом в госпитале она принялась за его руки, опустив их в тазик с марганцовкой. И только отмыв их от грязи и удалив всю живность, она взялась за скальпель, предварительно влив в рот солдату обезболивающее – полстакана медицинского спирта. Солдат молчал, когда она срезала с рук заражённую плоть, убирала гной, – лишь слёзы текли из его закрытых глаз и губы шевелились, шепча то ли молитву, то ли заклинание. Солдат был молоденький, совсем ещё мальчик. У него даже усов не было. Светлана очень старалась смягчить его боль, но знала, что боль всё равно адская.
Когда все процедуры были закончены, в палатку вошёл главный хирург, неся в вытянутой руке грязную одежду, которую перед лечением Светлана сняла с раненого.
– Ты кого притащила, милая? – спросил он устало.
– Солдата, кого ж ещё? У него все руки сгнили. – Светлана взяла перебинтованную руку солдата в свои, демонстрируя их хирургу. – Он, хоть и нетяжелораненый, но он умирал уже, понимаете?! По нему телега проехала. Я его еле откопала. Он под землёй несколько дней пролежал. Он весь простуженный. У него температура...
– Это фашист, – хирург сунул ей под нос заляпанную свастику на нашивке грязной одежды. – Ты спасла фашиста!
– Но его черви живьём ели, понимаете?! – Светлана испугалась, осознав, что содрала не все нашивки. Она готова была расплакаться от чувства жалости к этому мальчишке, который каким‑то неведомым образом оказался фашистом.
– Я всё понимаю! – остановил хирург поток её возражений движением руки. – Не заметила. Грязь. Умирает. Жалко. Клятва Гиппократа. Я всё понимаю. Но! Слышишь меня? Но! Как только чуток оклемается, отдаём в плен. Это не обсуждается! Это приказ!
Он ушёл, на ходу брезгливо вытирая руки о свой окровавленный фартук.
Светлана подошла к раненому. Тот открыл свои воспалённые глаза и сказал:
– Данке шон, фройляйн!
– Битте, – сухо кивнула она и подоткнула ему одеяло.
Когда поправившегося немца уводил конвой, он упал перед ней на колени и попытался поцеловать руку. Светлана вырвала руку. Офицеры прикладами вытолкали немца из вагона. А главный врач, успокаивающе похлопав её по плечу, нарочито грубо сказал:
– Давай, шагом марш в операционную!
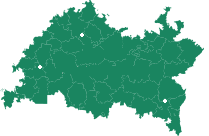


Добавить комментарий