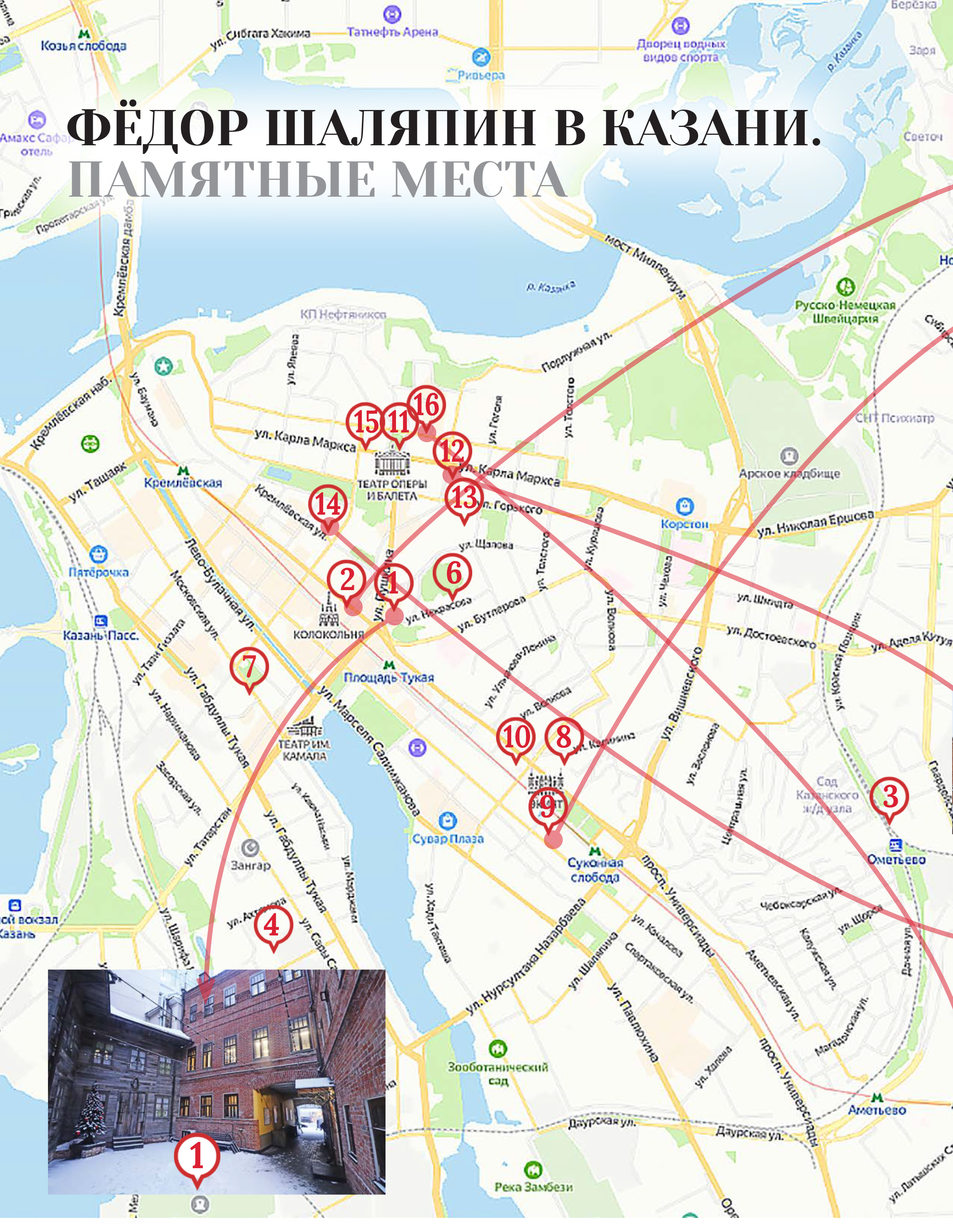
Страницы из моей жизни
Шаляпин– «это нечто огромное, изумительное и русское. Безоружный малограмотный сапожник и токарь, он сквозь тернии всяких унижений взошёл на вершину горы, весь окурен славой и – остался простецким, душевным парнем. Это – великолепно! Славная фигура!..» – так написал о нашем великом земляке Максим Горький. В год 150‑летия Фёдора Шаляпина, гениального баса всех времён и народов, «Татарстан» решил рассказать о казанском периоде его жизни. И справедливо рассудил, что лучше, чем сам Фёдор Иванович, об этом вряд ли кто способен рассказать.
21 февраля 2023
Фёдор Шаляпин
Отрывок из автобиографии (в сокращении)
Помню себя пяти лет.
Тёмным вечером осени я сижу на полатях у мельника Тихона Карповича, в деревне Ометовой, около Казани, за Суконной слободой. Жена мельника, Кирилловна, моя мать и две‑три соседки прядут пряжу в полутёмной комнате, освещённой неровным, неярким светом лучины. Лучина воткнута в железное держальце – светец; отгорающие угли падают в ушат с водою, и шипят, и вздыхают, а по стенам ползают тени, точно кто‑то невидимый развешивает чёрную кисею. Дождь шумит за окнами; в трубе вздыхает ветер.
– Поздно, пора бы уж Ивану‑то прийти! – слышал я сквозь дрёму голос матери.
Иван – это мой отец. Он приходил домой около полуночи, утром в семь пил чай и отправлялся в «присутствие». Слово «присутствие» пугало меня, напоминая суд, судей, а о суде я наслушался немало страшного. После я узнал, что «присутствие» – уездная земская управа, где отец служил писцом.
До управы от нашей деревни было вёрст шесть; отец уходил на службу к девяти часам утра, в четыре являлся домой обедать, а в семь, отдохнув и напившись чаю, снова исчезал на службу до двенадцати часов ночи.
Однажды я заметил, что прошло уже двое суток, а отец не приходил домой, и мать – в тревоге. На третьи сутки он явился пьяный, и мать встретила его слезами и упрёками.
– Как теперь быть, чем станем кормиться? – спрашивала она со страхом и тоскою.
Жутко и обидно было слышать, как отец, ругая мать зазорными словами улицы, кричал:
– Отстань, убирайся к чёрту, дай мне жить! Надоели вы мне, я только и знаю, что работаю. Надо же и мне когда-нибудь погулять!
С этой поры я стал относиться к отцу внимательнее, потому ли, что почувствовал свою зависимость от него, или потому, что был обижен и напуган его словами. А он начал выпивать всё чаще и, наконец, – каждое двадцатое число.
Трезвый он был молчалив, говорил только самое необходимое и всегда очень тихо, почти шёпотом. Со мною он был ласков, но иногда в минуты раздражения почему-то называл меня:
– Скважина.
Несмотря на постоянные ссоры между отцом и матерью, мне всё‑таки хорошо жилось. В деревне у меня было много товарищей, все – славные ребята. Мы ловко ходили колесом, лазали по крышам и деревьям, делали самострелы, пускали «ладейки» – воздушных змей. Мы ходи‑ ли по огородам, высыпая семена зрелого мака, ели их, воровали репу, огурцы; шлялись по гумнам, по оврагам, – везде было интересно, всюду жизнь открывала мне свои маленькие тайны, поучая меня любить и понимать живое.
Случай заставил родителей покинуть деревню, и, чтобы приблизиться к месту службы отца, мы переехали в город на Рыбнорядскую улицу, в дом Лисицына, в котором отец и мать жили раньше и где я родился в 1873 году.
Мне не понравилась шумная, грязноватая жизнь города. Мы помещались все в одной комнате – мать, отец, я и маленькие брат с сестрой. Мне было тогда лет шесть-семь.
Мать уходила на подёнщину мыть полы, стирать бельё, – а меня с маленькими запирала в комнате на целый день с утра до вечера. Жили мы в деревянной хибарке, и – случись пожар, – запертые, мы сгорели бы. Но всё‑таки я ухитрился выставлять часть рамы в окне, мы все трое вылезали из комнаты и бегали по улице, не забывая вернуться домой к известному часу. Раму я снова аккуратно заделывал, и всё оставалось шито-крыто.
У домохозяина, купца Лисицына, одна из дочерей играла на фортепьяно, – эта музыка казалась мне небесной. Сначала я думал, что девица играет на обыкновенной шарманке, то есть просто вертит ручку, а музыка делается сама собою внутри ящика; но вскоре я узнал, что хозяйская дочь выколачивает музыку пальцами.
«Это – ловко! – думал я. – Вот бы этак‑то научиться!»
И вдруг, – как по щучьему велению! – случилось, что кто‑то на нашем дворе разыгрывал в лотерею старинный клавесин; отец с матерью взяли для меня билет за 25 копеек, и я выиграл клавесин! Я безумно обрадовался, уверенный, что теперь научусь играть, но каково же было моё огорчение, когда клавесин заперли на ключ и, несмотря на мои униженные просьбы, не позволяли мне даже дотронуться до него.
Даже когда я подходил к инструменту, взрослые строго кричали:
– Смотри, сломаешь!
Зато, когда я захворал, так спал уже не на полу, а на клавесине. Иногда мне казалось: что если открыть крышку да попробовать, – может быть, я уже умею играть?
Мы переехали в Татарскую слободу, в маленькую комнатку над кузницей, – сквозь пол было слышно, как весело и ритмично цокают молотки по железу и по наковальне. На дворе жили колесники, каретники и, дорогой моему сердцу, скорняк. Летом я спал в экипажах, которые привозили чинить, или в новой, только что сделанной карете, от которой вкусно пахло сафьяном, лаком и скипидаром.
Скорняк был черноволосый и черноглазый человек с восточным лицом – он давал мне работу: раскладывать по крыше для просушки разные меха и потом выколачивать их тон‑ кими, гибкими палочками, за что он платил мне пятак. Это было большое богатство и счастье для меня. За две копейки я мог идти в купальню на озеро Кабан, где во «дворянском» отделении я плавал до того, что от холода становился синим, точно плотва. Брата и сестру мне нельзя было брать с собой на озеро, они ещё маленькие; брат – живой мальчуган, весёлый и способный, а сестрёнка – тихая, задумчивая, я звал её «нюня». На заработанные мною деньги я покупал им халву, и мы лакомились, вонзая молодые зубы в белую массу каменной твёрдости. Было забавно, когда эта странная штука крепко сцепит челюсти, а потом становится вязкой, как сапожный вар, и тает, наполняя рот молочной сладостью и мелом.
Помню весёлого кузнеца, молодого парня, он заставлял меня раздувать мехи, а за это выковывал мне железные плитки для игры в бабки. Кузнец не пил водки и очень хорошо пел песни, забыл я имя его, а он очень любил меня, и я его тоже. Когда кузнец запевал песню, мать моя, сидя с работой у окна, подтягивала ему, и мне страшно нравилось, что два голоса поют так складно. Я старался примкнуть к ним и тоже осторожно подпевал, боясь спутать песню, но кузнец поощрял меня:
– Валяй, Федя, валяй! Пой, – на душе веселей будет! Песня, как птица, – выпусти её, она и летит!
Вскоре после этого мы снова переехали в Суконную слободу, в две маленькие комнатки подвального этажа. Кажется, в тот же день я услышал над головою у себя церковное пение и тотчас же узнал, что над нами живёт регент и сейчас у него спевка. Когда пение прекратилось и певчие разошлись, я храбро отправился наверх и там спросил человека, которого даже плохо видел от смущения, – не возьмёт ли он и меня в певчие? Человек молча снял со стены скрипку и сказал мне:
– Тяни за смычком!
Я старательно «вытянул» за скрипкой несколько нот, тогда регент сказал:
– Голос есть, слух есть. Я тебе напишу ноты – выучи!
Он написал на линейках бумаги гамму, объяснил мне, что такое диез, бемоль и ключи. Всё это сразу заинтересовало меня. Я быстро постиг премудрость и через две всенощные уже раздавал певчим ноты по ключам. Мать страшно радовалась моему успеху, отец остался равнодушен, но всё‑таки выразил надежду, что если я буду хорошо петь, то, может быть, приработаю хоть рублёвку в месяц к его скудному заработку. Так и вышло: месяца три я пел бесплатно, а потом регент положил мне жалованье – полтора рубля в месяц.
Регента звали Щербинин, и это был человек особенный: он носил длинные, зачёсанные назад волосы и синие очки, что придавало ему вид очень строгий и благородный, хотя лицо его было уродливо изрыто оспой. Одевался он в какой‑то широкий халат без рукавов, крылатку, на голове носил разбойничью шляпу и был немногоречив. Но, несмотря на всё своё благородство, пил он так же отчаянно, как и все жители Суконной слободы, и так как он служил писцом в окружном суде, то и для него 20‑е число было роковым.
Однажды приказчики купца Черноярова, устраивая по какому-то случаю вечер в доме своего хозяина, предложили Щербинину дать им мальчиков-певцов; регент выбрал меня и ещё двоих. Втроём мы стали ходить к приказчикам на спевки; там нас угощали печеньем и чаем, в который можно было класть сахара, сколько душа желала.
Вследствие каких‑то непонятных причин хор Щербинина распался, и регент принужден был прекратить свою деятельность. Это, видимо, угнетало его, он запил ещё жёстче. Пьяный, звал меня к себе, брал скрипку, и втроем – он, скрипка и я – мы пели, иногда так хорошо, что даже плакать хотелось от какой‑то радости. После этого он уходил в кабак, а возвращаясь, снова звал меня петь.
– Пойдём!
– Куда?
– Всенощную петь.
– Где? С кем?
– Вдвоём.
И мы пошли по буеракам, мимо кирпичных сараев на Арское поле в церковь Варвары-великомученицы, где и спели всю всенощную в два голоса, дискантом и басом, а наутро в той же церкви пели обедню. Так, вдвоём, мы ходили петь по разным церквам долго, до поры, пока Щербинин не поступил в Спасский монастырь регентом архиерейского хора. Здесь я стал исполатчиком, получая уже не полтора, а шесть рублей в месяц. Это был большой заработок, а кроме того, я зарабатывал на свадьбах, похоронах и молебнах. Деньги я должен был отдавать родителям, но, разумеется, часть их утаивал…
Меня отдали в 6‑е городское училище. Учитель Башмаков оказался любителем хорового пения, и у него была скрипка. Этот инструмент давно и страшно нравился мне. И вот я стал уговаривать отца купить скрипку – мне казалось, что научиться играть на ней очень легко. Из денег, которые утаивались мною от жалованья, я не мог купить; это открыло бы отцу, что я не весь заработок отдаю ему. Да и, признаться, жалко мне было своих денег. Я умел и мог потратить их с неменьшим удовольствием. Отец купил мне скрипку на «толчке» за два рубля. Я был безумно рад и тотчас же начал пилить смычком по струнам, – скрипка отчаянно визжала, и отец, послушав, сказал:
– Ну, Скважина, если это будет долго, так я тебя скрипкой по башке!
Мне было лет двенадцать, когда я в первый раз попал в театр. Случилось это так: в духовном хоре, где я пел, был симпатичнейший юноша Панкратьев. Ему было уже лет семнадцать, но он пел всё ещё дискантом. Сейчас он протодьякон в Казанском монастыре.
Так вот, как‑то раз за обедней Панкратьев спросил меня, не хочу ли я пойти в театр? У него есть лишний билет в 20 копеек. Я знал, что театр – большое каменное здание с полукруглыми окнами. Сквозь пыльные стёкла этих окон на улицу выглядывает какой‑то мусор. Едва ли в этом доме могут делать что-нибудь такое, что было бы интересно мне.
И вот я на галёрке театра. Был праздник. Народу много. Мне пришлось стоять, придерживаясь руками за потолок.
Я с изумлением смотрел в огромный колодец, окружённый по стенам полукруглыми местами, на тёмное дно его, уставленное рядами стульев, среди которых растекались люди. Горел газ, и запах его остался для меня на всю жизнь приятнейшим запахом. На занавесе была написана картина: «Дуб зелёный, златая цепь на дубе том» и «Кот учёный всё ходит по цепи кругом», – медведевский занавес. Играл оркестр. Вдруг занавес дрогнул, поднялся, и я сразу обомлел, очарованный. Предо мною ожила какая‑то смутно знакомая мне сказка. По комнате, чудесно украшенной, ходили великолепно одетые люди, разговаривая друг с другом как‑то особенно красиво. Я не понимал, что они говорят. Я до глубины души был потрясён зрелищем и, не мигая, ни о чём не думая, смотрел на эти чудеса.
Помню, что я шатался, когда вышел на улицу.
Я понял, что театр – это несравнимо интереснее балагана Яшки Мамонова. Было странно видеть, что на улице день и бронзовый Державин освещён заходящим солнцем. Я снова воротился в театр и купил билет на вечернее представление.
Театр свёл меня с ума, сделал почти невменяемым. Возвращаясь домой по пустынным улицам, видя, точно сквозь сон, как редкие фонари подмигивают друг другу, я останавливался на тротуарах, вспоминал великолепные речи актёров и декламировал, подражая мимике и жестам каждого.
А театр всё более увлекал меня, и всё чаще я скрывал деньги, заработанные пением. Я знал, что это нехорошо, но бывать в театре одному мне стало невозможно. Я должен был с кем-нибудь делиться впечатлениями моими. Я стал брать с собою на спектакли кого-нибудь из товарищей, покупая им билеты, чаще других – Михайлова. Он тоже очень увлекался театром, и в антрактах я с ним горячо рассуждал, оценивая игру артистов, доискиваясь смысла пьесы.
А тут ещё приехала опера, и билеты поднялись в цене до 30 копеек. Опера изумила меня; как певчий, я, конечно, не тем был изумлён, что люди – поют, и поют не очень понятные слова, я сам пел на свадьбах: «Яви ми зрак!» и тому подобное, но изумило меня то, что существует жизнь, в которой люди вообще обо всём поют, а не разговаривают, как это установлено на улицах и в домах Казани.
Учиться я кончил, когда мне было лет тринадцать, и кончил, к удивлению родителей, даже с похвальным листом. Говоря по совести, я немножко надул учителей. Дело в том, что к выпускному экзамену ученикам было предложено написать какой-нибудь рассказ из личной жизни. Я был твёрдо уверен, что не сумею написать такого рассказа, и решил, что будет гораздо лучше, если я спишу его из какой-нибудь книжки.
– Ну, – сказал мне отец, – теперь ты грамотный! Надо работать. Ты вот по театрам шляешься, книжки читаешь да песни поёшь! Это надобно бросить… – Я тебя пристроил в ссудную кассу Печёнкина! Сначала без жалованья, а после получишь, что дадут.
И вот я сижу за конторкой ссудной кассы, сижу с девяти часов до четырёх. Приносят разные невесёлые люди кольца, шубы, ложки, часы, пиджаки, иконы; оценщик оценивает всё это в одну сумму, назначает к выдаче другую; происходят споры, торг, кто‑то ругается, кто‑то плачет, умоляя прибавить, ссылаясь на болезнь матери, смерть сына, а я пишу квитанции, думаю о театре. В ушах у меня звучит милая песенка:
Расскажите вы ей,
Цветы мои,
Как люблю я её…
Прослужив два месяца бесплатно, я стал получать жалованье по 8 рублей в месяц. Служба была глубоко противна мне, но я гордился тем, что зарабатываю и помогаю матери жить. Работал я всё‑таки аккуратно и был на хорошем счету.
Летом в Панаевском саду играла оперетка, на открытой сцене действовали куплетисты и рассказчики. Я, конечно, посещал сад. Страшно интересовали меня артисты, но я почему-то боялся их и всегда наблюдал за ними только откуда-нибудь со стороны, из угла. Смотрел и думал:
«Какие удивительные люди! Вот человек только что был королём, а теперь одет, как все, пьёт пиво и грызёт солёные сухарики».
Вскоре я ушёл от Печёнкина. Не помню точно почему, но уверен, что из‑за театра, который убивал моё радение к службе.
Отец устроил меня писцом в уездную земскую управу, и теперь я ходил на службу вместе с ним. Мы переписывали какие‑то огромные доклады с кучей цифр...
Я бывал и на прекрасном Средиземном море, и в Атлантическом океане, а всё‑таки и до сего дня с любовью помню тихое, тёмное озеро Кабан.
Бывало, летом, по ночам, меня особенно тянуло на Кабан. Я шёл на берег, влезал на одну из больших вётел и до свету ночной птицей сидел на дереве, о чём‑то думая, глядя в даль озера. Тишина и спокойствие его приводили мысли мои в порядок, отвлекали меня от скверны, в которой медленно и лениво тянулась жизнь Суконной слободы. Иногда, сквозь молчание ночи, донесётся с Песков, где сосредоточены «весёлые дома», тоскующий, редко трезвый голос. Он поёт модную в то время песню о девице, которая стояла
…под луной на поле серебристом
И уверяла небо – чистым
Хранить до гроба свой покой…
С одной стороны Кабана – тихая Татарская слобода и огромная фабрика Крестовниковых, с другой стороны Пески, где всю ночь напролёт пьют, дерутся. А между этими противоположностями – спокойное, тёмное пространство; в глубине его Чёртов Угол, место прогулок молодёжи, куда ездили в лодках шумными компаниями студенты, модистки и всяческая молодёжь.
Был у меня знакомый паренёк – Каменский, человек лет семнадцати, очень театральный. Он играл маленькие роли в спектаклях на открытой сцене Панаевского сада. Однажды он сказал мне:
– Есть отличный случай для тебя попасть на сцену! Режиссёр у нас строгий, но очень благосклонен к молодым, – просись!
Я пошел к режиссёру, и он предложил мне сразу же роль жандарма в пьесе «Жандарм Роже». В этой пьесе изображаются воры и бродяги.
Они всё время проделывают разные хитрые штуки, а жандарм Роже ловит их и никак не может поймать. Вот этого неловкого жандарма и поручили мне играть. Я погрузился в состояние священного и непрерывного трепета от радости и от сознания ответственности, возложенной на меня.
И вот настал желанный вечер. Я пришёл в сад раньше всех, забрался в уборную, оделся в мундир зелёного коленкора с красными отворотами и обшлагами из коленкора же, натянул на ноги байковые штаны, называвшиеся лосинами, на сапоги надел голенища из клеёнки, вымазал себе физиономию разными красками, но за всем этим не очень понравился сам себе. Сердце беспокойно прыгало. Ноги действовали неуверенно.
Настал спектакль. Я не могу сказать, что чувствовал в этот вечер. Помню только ряд мучительно неприятных ощущений. Сердце отрывалось, куда‑то падало, его кололо, резало. Помню, отворили дверь в кулисы и вытолкнули меня на сцену. Я отлично понимал, что мне нужно ходить, говорить, жить. Но я оказался совершенно неспособен к этому. Ноги мои вросли в половицы сцены, руки прилипли к бокам, а язык распух, заполнив весь рот, и одеревенел. Я не мог сказать ни слова, не мог пошевелить пальцем. Но я слышал, как в кулисах шипели разные голоса:
– Да говори же, чёртов сын, говори что-нибудь!
– Окаянная рожа, говори!
– Дайте ему по шее!
– Ткните его чем-нибудь…
Пред глазами у меня всё вертелось, многогласно хохотала чья‑то огромная, глубокая пасть; сцена качалась. Я ощущал, что исчезаю, умираю.
Опустили занавес, а я всё стоял недвижимо, точно каменный, до поры, пока режиссёр, белый от гнева, сухой и длинный, не начал бить меня, срывая с моего тела костюм жандарма. Клеёнчатые ботфорты снялись сами собою с моих ног, и, наконец, в одном белье, я был выгнан в сад, а через минуту вслед мне полетел мой пиджак и всё остальное. Я ушёл в глухой угол сада, оделся там, перелез через забор и пошёл куда-то. Я плакал.
Потом я очутился в Архангельской слободе у Каменского и двое суток, не евши, сидел у него в каком‑то сарае, боясь выйти на улицу. Мне казалось, что все, весь город и даже бабы, которые развешивали бельё на дворе, – все знают, как я оскандалился и как меня били.
Наконец я решился пойти домой и вдруг дорогою сообразил, что уже три дня не был на службе. Дома меня спросили, где я был. Я что‑то соврал, но мать грустно сказала мне:
– Тебя, должно быть, прогонят со службы. Сторож приходил, спрашивал, где ты.
На другой день я всё‑таки пошёл в управу и спросил у сторожа Степана, каковы мои дела.
– Да тут уж на твоё место другого взяли, – сказал он.
Я продолжал петь в церковном хоре, но этим много не заработаешь. К тому же у меня «ломался» голос.
Мне уже минуло 15 лет, и дискант мой исчезал.
Кто-то надоумил меня подать в судебную палату прошение о зачислении писцом. Меня зачислили. И вот я, сидя в душной, прокуренной комнате, переписываю определения палаты и – странно! – почему-то всё по делам о скотоложстве и изнасиловании!
Тут чиновники ходили не в пиджаках и сюртуках, как в уездной управе, а в кителях со светлыми пуговицами и в мундирах. Всё вокруг было строго, чинно и, внушая мне чувства весьма почтительные, заставляло меня думать, что не долго я прослужу во храме Фемиды. Здесь, в палате, я впервые испытал удовольствие пить кофе – напиток до этого времени незнакомый мне.
Не успевая переписать бумаги за часы службы в палате, я брал работу на дом. Однажды, получив жалованье, я отправился по лавкам покупать чай, сахар и разные припасы для дома; купил для себя какие‑то книжки у букиниста. Еду домой и вдруг с ужасом замечаю, что свёрток определений палаты я потерял. Это было ужасно. Я почувствовал, что земля разверзлась подо мной и я повис в воздухе, как ничтожное куриное перо. Бросился в лавки, где покупал припасы, ходил по улицам, спрашивал прохожих, не поднимали ли они свёрток бумаг, сделал, должно быть, множество всяких нелепостей, но определений палаты не нашёл. Остаток дня я провёл в оцепенении, ночь не спал, а утром, придя в палату, сказал о несчастье моём сторожам, которые поили меня кофе. На них это произвело очень сильное впечатление. Покачивая головами, почёсываясь, они многозначительно сказали:
– Мм… Да! Это, брат, того!
Мне уже минуло 17 лет. В Панаевском саду играла оперетка. Я, конечно, каждый вечер торчал там. И вот однажды какой‑то хорист сказал мне:
– Семёнов-Самарский собирает хор для Уфы, – просись!
Набравшись храбрости, я подошёл к нему в саду, снял картуз.
– Что Вам? Ага! Придите ко мне в гостиницу, завтра.
Я застал Семёнова в халате. Лицо его было осыпано пудрой. Он напоминал мельника, который, кончив работу, отдыхает, но ещё не успел умыться. За столом против него сидел молодой человек, видимо кавказец, а на кушетке полулежала дама. Я был очень застенчив, а перед женщинами – особенно. Сердце у меня ёкнуло: ничего не сумею сказать я при даме. Семёнов-Самарский ласково спросил меня:
– Что же Вы знаете?
Меня не удивило, что он обращается со мной на Вы, – такой барин иначе не мог бы, – но вопрос его испугал меня: я ничего не знал. Решился соврать:
– Знаю «Травиату», «Кармен».
– Сколько вам лет?
– Девятнадцать, – бесстыдно сочинил я.
– А какой голос?
– Первый бас. Его ласковый тон, ободряя меня, придавал мне храбрости. Наконец он сказал:
– Знаете, я не могу платить вам жалованье, которое получают хористы с репертуаром…
– Мне не надо. Я без жалованья, – бухнул я.
Это всех изумило. Все трое уставились на меня молча. Тогда я объяснил:
– Конечно, денег у меня никаких нет. Но, может быть, Вы мне вообще дадите что-нибудь.
– Пятнадцать рублей в месяц.
– Видите ли, – сказал я, – мне нужно столько, чтоб как-нибудь прожить, не очень голодая. Если я сумею прожить в Уфе на десять, то дайте десять. А если мне будет нужно шестнадцать или семнадцать…
Кавказский человек захохотал и сказал Семёнову-Самарскому:
– Да ты дай ему двадцать рублей! Что такое?
– Подписывайтесь, – предложил антрепренёр, протягивая мне бумагу. И рукою, «трепетавшей от счастья», я подписал мой первый театральный контракт.
Р.S.
ФЁДОР ШАЛЯПИН – О СВОЁМ ПЕРВОМ КОНЦЕРТЕ В КАЗАНИ*
– На заре юности я приехал в Казань из Баку, где пел в малороссийской труппе. Голос был порядочный. Хорошая фразировка. Владел я своим голосом, знал уже, что такое «дыхание», знал, как «набирать» воздуху в лёгкие и экономно расходовать запас его. Был кое‑какой репертуарчик: «Два гренадёра», «Ноченька», «Новгород», шатался без дела. Баклуши бил... И вот встречаю друга юности – татарина Хайруллу. Смышлёный был парень, оборотистый... Когда в Казань приезжали знаменитости, билеты покупал, хорошо наживался...
Хайрулла был грамотный. Газеты читал. Знал всех артистов. Любил театр. Бывал на концертах. Особенно любил скрипку...
– Понимаешь, Шаляпин, – сказал он однажды, – деньги будут и тебе. У тебя сильный голос: кричишь как пароходный труба. А приятно поёшь. Давай концерт устроим.
На другой день Хайрулла взял какой‑то зал, были отпечатаны афиши. Сам Хайрулла ездил в полицию за разрешением. Цены билетам были назначены дешёвые. Бойко шла продажа билетов в табачном магазине.
– Я, – продолжал Фёдор Иванович, – получил аванс в десять рублей. В концерте, который на афише значился «народным», я должен был выступать в поддёвке, которую купил Хайрулла. До концерта Хайрулла ежедневно угощал меня лукулловскими обедами в какой‑то харчевне. Я чувствовал себя знаменитостью. Меня окружал своими заботами мой «первый импресарио» Хайрулла. Никогда я не обедал с таким аппетитом, никогда потом меня не трогали так заботливости и внимание моих «импресарио».
Концерт прошёл блестяще. Страстно звенел мой голос. После «Ноченьки» ко мне подошёл какой‑то старик-рабочий, полупьяный, жалкий, и протянул мне свою жилистую рабочую руку. Он силился что‑то сказать, но не мог. Только замотал головой и молча повернулся.
Когда я пел «Двух гренадёров», в задних рядах вполголоса подтягивали «Марсельезу». Мне стало жутко. Где‑то в углу зашевелился полицейский. Он тоже был пьян, его напоил Хайрулла.
Концерт окончен. Потушены огни. Я чувствую себя триумфатором. При выходе из зала молоденькая девушка протянула мне свою тёплую, нежную ручку. Так сладко стало на душе!
Мы сидим с Хайруллой в грязных «номерах». Хайрулла делает какие‑то вычисления. Подмигивает мне своими хитрыми глазками.
– Получай... Немного остался тэбэ... 84 копейки... Ми точно посчитали... Много расход был. Поддёвка покупал... сапоги покупал... за номер платил... полиции расход был... обедом угощал...
– Довольно! – кричу я Хайрулле. – К чёрту с твоими расходами. Я доволен... счастлив, понимаешь ты?.. Ловко всё это вышло... Спасибо!
...Долго я не могу уснуть. В окно жалких «номеров» тонкой полоской льётся предутренний рассвет. Я благославляю день моего концерта, давший мне чистый сбор в... 84 копейки.
* Текст был опубликован в казанской газете «Копейка» за 1912 год
Фото: lera-komor.livejournal.com
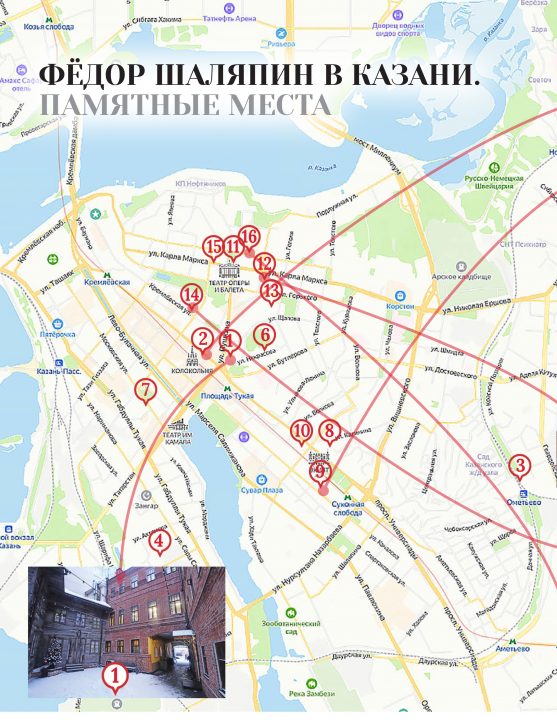

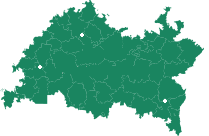

Добавить комментарий