Книжная полка журнала «Татарстан»
К 1020‑летию любимого города редакция «Татарстана» задумала представить лучшее из того, что написано о Казани. И очень скоро осознала: задача неразрешимая. Романы, повести, рассказы, воспоминания, поэмы… А среди авторов – Сергей Аксаков, Лев Толстой, Рустем Кутуй, Гавриил Державин, Абдурахман Абсалямов, Фёдор Шаляпин! И ещё десятки других, великих и известных. Так что выбор редакции – лишь немногое из того, что стоит прочитать или вспомнить.
В ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ НА НАС ПОВЛИЯЛИ…
– «Сенной базар, или Новый Кисекбаш» Тукая. Действие фантастической поэмы-сказки разворачивается на знакомых до боли казанских улицах, оттого, наверное, и читается она взахлёб. А стихотворение «Казань» Маяковского? Этот маленький шедевр пролетарского горлана-главаря в нашем детстве, был, пожалуй, популярнее его «Левого марша». «Стара, коса стоит Казань. Шумит Бурун: «Шурум… бурум»... Не знать наизусть эти строки среди начитанных юнцов считалось просто неприличным, хотя смысл загадочного «Шурум-бурум» был известен единицам. Потом, став чуть постарше, многие зачитывались повестью Рафаэля Мустафина «Тайны озера Кабан». Книга захватывала и будила воображение: в юных головах рождались самые смелые прожекты о том, где искать сгинувшие в веках сокровища казанских ханов.
Горьковские «Мои университеты» были уже как бы следующей ступенью. Читая повесть, мы взрослели вместе с главным героем, постигавшим жизнь без прикрас. Удивительным было то, что всё тёмное и беспросветное происходило пусть когда‑то в прошлом, но в твоём родном городе. «И вот я живу в странной, весёлой трущобе – «Марусовке», вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоёванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя….» После того как повесть была прочитана, начинался квест. Нужно было обязательно отыскать и ту самую мрачную коммуналку, которую до революции именовали «Марусовкой», и десяток других мест Казани, увековеченных пролетарским писателем.


СЕЙЧАС ЧИТАЕМ…
– Книгу Евгения Сухова «Скитания чудотворной». История о том, как была обретена, затем утеряна икона Казанской Божией Матери, о долгих её поисках и возвращении читается на одном дыхании. Во многом потому, что главные действующие лица книги – казанцы. Больше того – наши современники. Прибавьте сюда захватывающий детективный сюжет и гремучую смесь из фантазии автора, реальных фактов, документов, подлинных событий и вымысла. Все три тома «Скитаний чудотворной» – это не просто литература в чистом виде, но и кладезь интереснейшей познавательной информации.
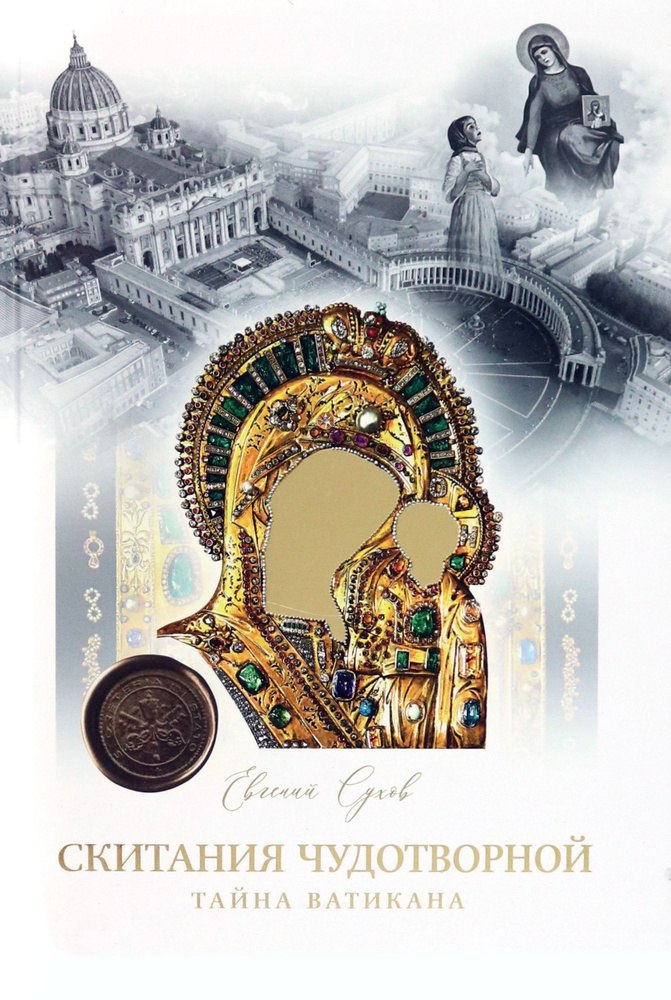
ИЗ ПОСЛЕДНЕГО, ЧТО ЗАДЕЛО…
– Очерк Ларисы Рейснер «Казань». Удивительно, написан он был по горячим следам больше ста лет назад, но читаешь – и будто переносишься в город, который покидают, отступая, красные. Затем – в город, занятый белыми… А всё она, великая магия слова – владея ей в совершенстве, Рейснер создаёт полный эффект присутствия. Будто это не автор, а ты оказываешься в штабе неприятеля, не она, а ты чудом выбираешься из «осиного гнезда»… Этот очерк, описывающий реальные события, напомнил замечательную повесть Алексея Толстого «Гадюка», действие которой тоже происходит в Казани, хотя сравнивать его, очерк, с художественным произведением, конечно, не вполне корректно.
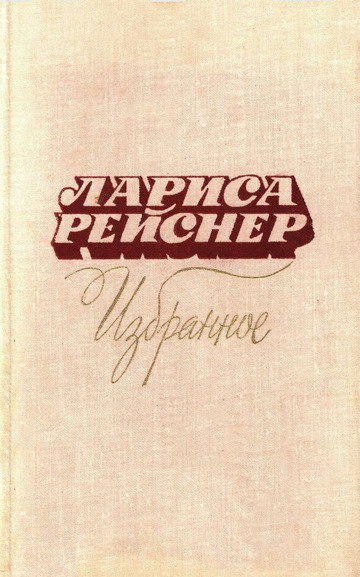
РЕКОМЕНДУЕМ…
– «Ленд-лизовские. Lend-lеasing». Это последняя книга Василия Аксёнова – рукопись обнаружил сын писателя уже после его смерти. Действие романа происходит в «трамвайном городище Булгары», но с первых страниц становится ясно, что это Казань поры аксёновского детства и отрочества. Собственно, и главное действующее лицо романа – он сам (в книге – мальчик Акси-Вакси). Не нужно много фантазии, чтобы в Бездонном озере (так у автора), соседствующем с известными застенками, разглядеть казанское Чёрное озеро. А многие другие места «городища» даже не требуют расшифровки. Дворец Сандецкого, строящийся театр на площади Свободы, городская баня на Большой Красной... И даже «уединённый пляжик на курортном казанском островке Маркиз, что на несколько вёрст ниже по течению великого водного потока Итиль…».

ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗВРАЩАЕМСЯ…
– К поэме Евгения Евтушенко «Казанский университет». Как может быть живее всех живых поэма, написанная к 100‑летию вождя мирового пролетариата? Лучше всего на этот вопрос в своё время ответил сам Евтушенко: «Искренность далеко не всегда правда. Тем не менее, перечитывая «Казанский университет» после всех новопрочитанных материалов, я понял, что, к счастью, в этом случае моя искренность не оказалась неправдой. Подросток Володя, который полицейскому, убеждающему его: «Перед вами же стена», с весёлой усмешкой сказал: «Да она гнилая. Ткни – развалится», и Владимир Ильич Ленин, превративший стены Соловецкого монастыря в тюремные, всё‑таки до какого-то момента ещё были разными людьми...».
Да и «Казанский университет» это ведь не только про Ленина – про нашу с вами историю, часто трагическую. «Юлий Даниэль, возвратившись из ГУЛАГа, рассказывал мне, – вспоминал поэт, – что в лагерных бараках, где гвоздём, где углём, были нацарапаны цитаты из «Казанского университета». Такие вот: «Мне не родной режим уродливый, – родные во поле кресты. Тоска по Родине на родине, нет ничего сильней, чем ты», или: «В дни духовно крепостные, в дни, когда просветов нет, Тюрьмы – совести России Главный университет», или: «Лишь тот настоящий отечества сын, кто, может быть, с долей безуминки, но всё‑таки был до конца гражданин в гражданские сумерки».
Кстати, сам Евтушенко говорил, что после своего «трудного переосмысления истории» он поправил в поэме очень немногое. Добавил одну метафорическую главу и убрал в финале строчку «за будущих УЛЬЯНОВЫХ твоих».
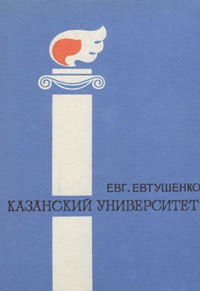


Добавить комментарий