
За кулисами школьного балла
Абитуриент нынче не тот?
30 октября 2018
– Уровень абитуриентов становится выше из года в год. В этом году средний показатель ЕГЭ, с которым к нам идут, вырос почти на 2 балла, – сразу же заявляет ответственный секретарь приёмной комиссии Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева – КАИ (КНИТУ – КАИ) Роман Моисеев. – Раньше первые две недели первого курса мы доводили уровень выпускников школ до уровня вуза по высшей математике и физике, был интенсив по техническим направлениям. Сейчас этого не требуется – первокурсники хорошо осваивают даже дополнительные дисциплины. Которые сами же и выбирают.

О ЧЁМ ТЫ, НАТАША?
Более половины абитуриентов КНИТУ – КАИ (около 500 человек) – из Татарстана, около трети (примерно 300 человек) – из Казани. Физика, математика и русский язык – суммарный балл ЕГЭ по этим предметам у поступающих в КНИТУ – КАИ по общему конкурсу переваливает за 200. Есть ряд престижных специальностей, за которые конкурируют с 230‑240 баллами.
– Первого сентября я пошёл на линейку – было интересно, кого же мы набрали. Так вот, в некоторых группах ребята уже обсуждали, над чем вместе можно поработать. Это очень позитивный знак, – говорит Роман Моисеев.
В гуманитарных вузах на ситуацию смотрят менее оптимистично.
– Действительно, на «бюджете» проходной балл растёт, конкурс становится выше. Но высокий балл ЕГЭ, увы, не означает, что абитуриент умеет мыслить. Да, он владеет фактологией. Но поскольку всё его обучение в старших классах сводилось к натаскиванию на ЕГЭ, сравнивать и сопоставлять он может с трудом, а знакомиться со смежными темами для более глубокого изучения основной он не привык, – говорит доцент кафедры археологии и этнологии Казанского федерального университета Вадим Козлов. – Всё это происходит на фоне погружённости в интернет, социальные сети. Происходит убийство грамотности, отказ от языковых норм, повсеместное использование сленга. Конечно, это давно длящийся, глобальный, объективный процесс. Но при сложении всех факторов мы получаем будущего специалиста с очень скудной лексической палитрой. При том что в высшей школе свободное изложение мысли с использованием профессиональной терминологии – не цель, а банальный инструмент.

– Наши абитуриенты соответствуют самым высоким требованиям в том, что касается баллов по предметам, напрямую связанным с их будущей профессией. Они приносят портфолио, которые демонстрируют, что в школе они работали над проектами в сфере журналистики. Но вот их знания по другим предметам – истории, обществознанию, географии – вызывают вопросы. А ведь программа вуза рассчитана на то, что выпускник подготовлен комплексно, основательно. И когда приходится вынужденно восполнять пробелы, нагрузка на преподавателей и студентов растёт, – говорит директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета Леонид Толчинский. – В связи с этим я скептически отношусь к ЕГЭ как к форме проверки знаний по гуманитарным школьным предметам и особенно как к критерию, на основе которого осуществляется зачисление в гуманитарный вуз. Да, в изложении выпускник может пересказать в подробностях отрывок про бал Наташи Ростовой (и в современных реалиях это уже хорошо!). Но мне важно, насколько он понял этот отрывок, язык, смыслы Толстого. Может ли он внятно говорить об этом с собственной позиции?
– Способность рассуждать, анализировать, понимать материал в идеале формируется практически на всех предметах школьного цикла. У нас нет объективных замеров изменения этих навыков с позднесоветского времени и даже 90‑х годов, – отвечает на мой вопрос о том, снижаются ли аналитические и мыслительные способности сегодняшних выпускников, кандидат филологических наук, доцент школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Михаил Павловец. – Это ощущение субъективно и возникает, на мой взгляд, по нескольким причинам. Одна – растущее с возрастом убеждение, что «раньше вода было мокрее, а трава зеленее». Другая – возросшая доступность высшего образования. В вузах с высокими конкурсами и объективным отбором о падении качества абитуриентов говорят гораздо реже. Третья – общая «инфантилизация» подрастающего поколения. Продолжительность жизни, материальное, психологическое благополучие растёт, из‑за чего возникает феномен «продлённого детства»: молодёжь позднее начинает вести самостоятельную жизнь, позднее создаёт семьи и, соответственно, позднее готова интеллектуально и психологически к получению высшего образования. Ей некуда торопиться.

ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ
«Мы не «колёсики и винтики», мы – Фиксики», – такой фразой отозвались ученики 9‑го класса одной из престижных казанских школ на цитату Ленина о роли литературы в партийном движении. Фиксики (от англ. to fix – чинить, исправлять) – это такие мультяшные Карандаш и Самоделкин нового времени. Они постоянно ищут решения для новых и новых задач.
– Казалось бы, пяти часов филологии в неделю в девятом классе (в нашей школе это 2 часа русского языка и 3 часа литературы) достаточно для планомерного освоения программы. Она, к слову, не предусматривает целенаправленной подготовки именно к тестовым экзаменам, но мы просто вынуждены тратить на это часть времени. Так что из пяти часов вычитается время подготовки к ОГЭ, к регулярным мониторингам, пусть и небольшим, но всё же обязательным проверочным работам по каждой теме. И нужно учесть, что, по сравнению с предыдущей школьной программой, в нынешней – на порядок больше произведений для изучения. К концу года девятиклассник должен объять необъятное и сдать изложение, сочинение и тест. В этом году может добавиться ещё и устный экзамен. В 11-м классе ситуация немногим лучше, – рассказывает Ольга Соловцова, учитель русского языка и литературы казанского лицея №131.

Учителя и ученики в старшей школе действительно чем‑то напоминают «фиксиков»: и те и другие заняты устранением различных ситуативных проблем, непрерывным балансированием между непосредственно учёбой и гонкой за многочисленными целевыми показателями – оценками, баллами, рейтингами. Родители – болельщики на этом изнурительном марафоне: самые ярые до предела заполняют график ребёнка занятиями с репетиторами ради заветного высокого балла за ЕГЭ.
– Мы редко говорим о том, что, возможно, высшее образование не нужно всем детям или нужно не сразу после школы. В России это – отголосок советской традиции. Тогда диплом обеспечивал успешное будущее, престижную профессию, позволял войти в круг интеллигенции, – говорит директор центра компетенций «Академия менеджмента» (Набережные Челны), координатор «Олимпиады наставников» Университета Талантов (Казань) Ольга Репина. – Сегодня тоже, при прочих равных условиях, работодатель предпочтёт специалиста с высшим образованием. Но ценится уже не столько уровень знаний, сколько сам факт окончания вуза. Он означает, что соискатель умеет соблюдать нормы, системно осваивать знания. Жёсткой связки между дипломом и успехом сейчас нет.
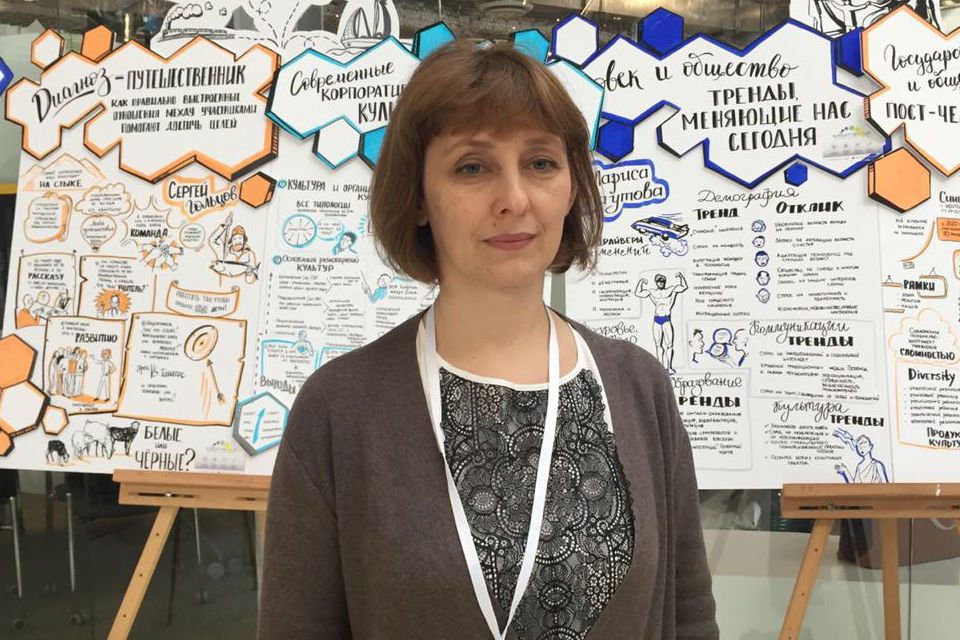
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСОВ НЕ НАБЛЮДАЮТ
На февральской Международной научно-практической конференции «Тенденции развития образования» директор Института социологии образования РАО Владимир Собкин озвучил результаты опроса 3,5 тысячи родителей школьников в Ленинградской области. Им, в частности, предлагалось оценить различные качества учителя: владение материалом, использование форм и методов обучения, умение увлечь предметом, учёт индивидуальных особенностей учащихся и другие. Тенденция была такой: чем старше класс, тем сильнее родители критиковали учителя.
– Мы говорим о том, что явно снижается удовлетворённость родителей педагогами. Оттого, что они не могут учитывать интересы ребёнка в процессе учебной деятельности. Это серьёзный сигнал и диагноз состояния школы, – прокомментировал тренд Владимир Собкин. – Насколько она вообще интересна ученику?
– Московские и петербургские передовые школы выбирают программы, которые с первого класса формируют у детей мышление, готовность обсуждать предмет, будь то русский язык или математика. Одна из таких программ – это методика Даниила Эльконина и Василия Давыдова. Мы действительно немножко переоцениваем сейчас значимость ЕГЭ, но ведь и его структура меняется в конструктивную сторону, – говорит Ольга Репина. – Например, сегодняшние задания в части «С» требуют глубокого владения материалом. Я – сторонник ЕГЭ и смотрю на него с позиций ученика и родителя. Единый госэкзамен даёт выпускнику пятнадцать возможностей для поступления в вуз, тогда как прежняя форма давала лишь одну.
Но при этом, отмечает спикер, ситуацию, в которой родителям ученика начальной школы педагоги говорят о необходимости занятий с репетитором, можно расценивать как катастрофическую. Нужно пересматривать или требования к образовательному результату, или сам принцип работы школы.
– Я вовсе не против достижений, волевых усилий, некоторых высочайших результатов, которыми всегда славилась наша система образования. Но я считаю, что в ней должен поменяться акцент. В Финляндии, чья система образования считается одной из лучших в мире, ученики проводят в школе три-четыре часа в день. А главный ориентир для педагогов – это то, что дети должны ощущать себя счастливыми, – говорит Ольга Константиновна. – В книге Лайла Спенсера «Компетенции на работе» представлены результаты исследования человеческих качеств, связанных с успехом в работе. Упор делался на то, что действительно приводит к наилучшему исполнению работы, чем отличаются «лучшие» специалисты от тех, кто выполняет свою работу на «среднем» уровне. Оказалось, что отсутствие уверенности в себе, позитивного представления о других людях и понятия доброты как базового качества человека мешали специалистам выполнять задачи на высшем уровне. В гонке за результатом мы зачастую рушим самооценку ребёнка, волей-неволей даём понять, что если он не сдал тест, то ни на что не годен. С таким отношением к себе и к миру стать специалистом с высоким уровнем компетенции ему будет очень трудно.
Между тем один из результатов упомянутого исследования Владимира Собкина – это на порядок возросшая удовлетворённость родителей уровнем образования детей. Эксперт привёл предыдущие данные за 1991 год. Тогда на вопрос «Считаете ли вы, что ваш ребёнок получает достаточные знания во всех отраслях?» утвердительно ответили 7,5 процента респондентов. А в 2016 году – 48 процентов. То есть почти половина опрошенных на основе собственной учёбы оценивают школу гораздо выше, чем их родители, которые 25 лет назад уровнем той самой учёбы были сильно не удовлетворены.


Добавить комментарий