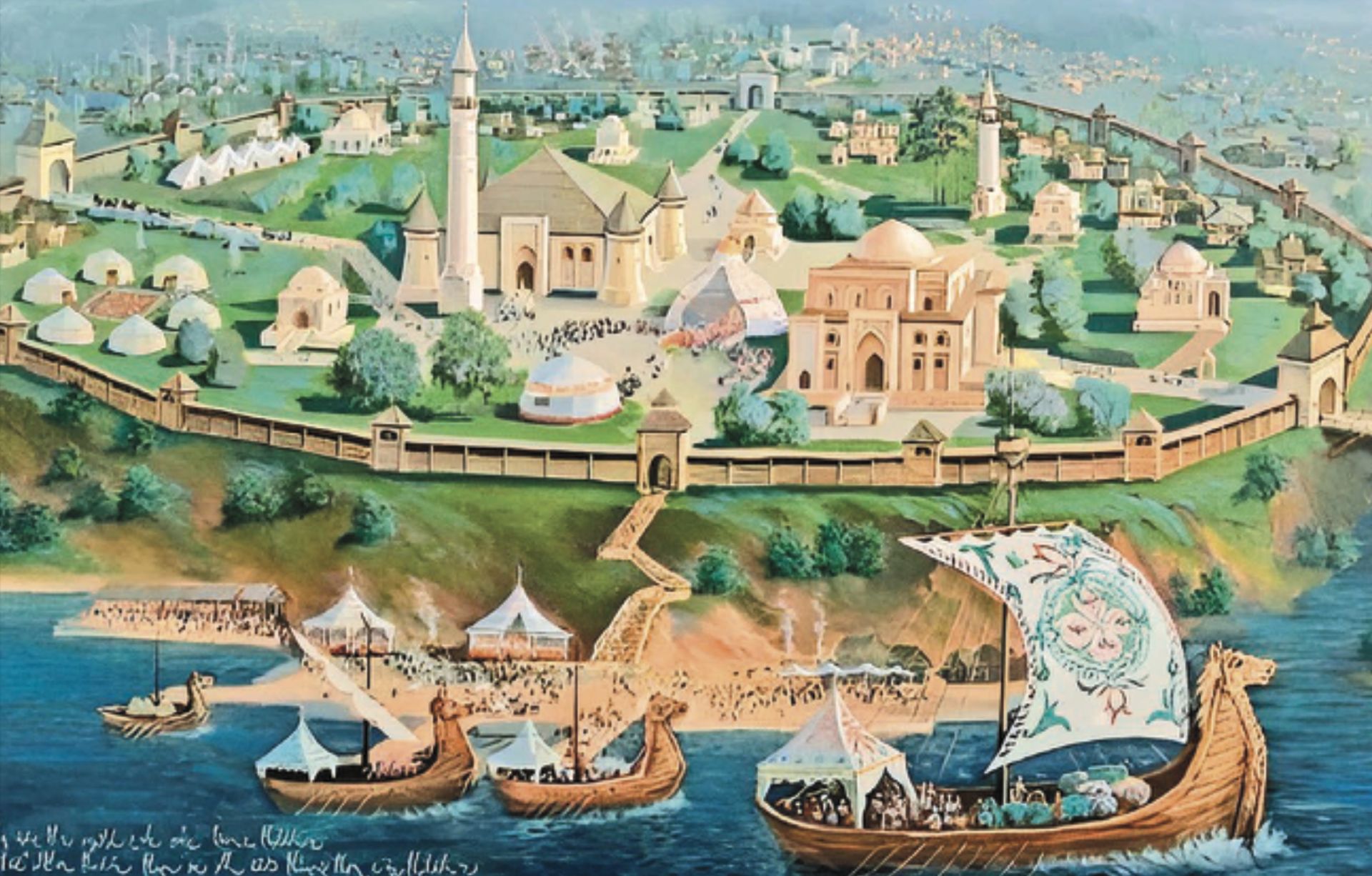
Философы, реформаторы, просветители
Татарская богословская школа занимает особое место в исламском мире. Курсави, Утыз Имяни, Марджани, Буби, Баруди, Фахретдин… – этих выдающихся улемов своего времени без преувеличения можно назвать яркими звёздами на небосклоне мировой исламской науки, мысли и философии, просвещения. О некоторых из них – наш рассказ.
28 марта 2025
ГАБДЕННАСЫР КУРСАВИ
Угроза смертной казни, клеймо вероотступника и смерть на чужбине по дороге в хадж… Жизненный путь Габденнасыра Курсави не был усыпан розами, а его реформаторские идеи современники часто принимали в штыки. Те самые идеи, которые обессмертили его имя в исламском мире.

Сначала медресе на родине, затем продолжение учёбы в Бухаре…– в конце XVIII века это был проторенный путь для татар, всерьёз желавших посвятить себя религиозной деятельности. Дома в ту пору не было ни одного медресе высшего типа, сравнимого со среднеазиатскими. Даже стать мударрисом – ректором в медресе – можно было только имея за плечами полученное в бухарском «вузе» образование.
ВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМ И НЕ БОЯТЬСЯ МЫСЛИТЬ
Но Курсави в Бухаре, надо полагать, интересовали не только авторитет официальной богословской школы и возможности «карьерного» роста. Здесь веками существовали суфийские тарикаты, передававшие знания интеллектуальной элиты. Суфии этих орденов смогли сохранить духовную свободу даже в атмосфере жёсткого диктата государства. Именно медресе влиятельного шейха тариката Ниязкули ат-Туркмани выбрал Габденнасыр в Бухаре для продолжения образования, здесь, по-видимому, и сформировались его научные взгляды.
Досконально изучив исламскую догматику и осознав, насколько далеко бухарские богословы отошли от традиций первых веков ислама, Курсави обозначил курс. Он призвал духовенство вернуться к истокам и опираться на основные источники мусульманского права: Коран, сунну, иджму (единодушное согласие общины), киясе (суждение по аналогии). А если же нельзя найти правовые решения в прошлом – находить их на основании иджтихада, то есть принимать самостоятельные решения.
Свои идеи Габденнасыр хазрат стал проповедовать в медресе, которое открыл на родине, в деревне Верхняя Курса (сегодня Арский район Татарстана), у него здесь появились последователи. Однако реформаторским взглядам улема было тесно в стенах сельского медресе, и он принял решение вынести их на суд коллег в Бухаре.
РЕПРЕССИИ ВМЕСТО АРГУМЕНТОВ
Как могли воспринять идеи Курсави в городе, где правили бал деньги и власть, а муллы не жалели сил, чтобы доказать якобы божественную природу власти жестокого эмира, отрицая саму возможность изменения окружающего мира? Даже те, кто внутренне был убеждён в том, что необходимо вернуться к творческому духу первых веков ислама, не осмеливались высказывать это вслух. Революционные идеи Габденнасыра Курсави, которые он с блеском отстаивал в научных спорах, могли взорвать устои общества, застрявшего в средневековье.
Реакция власти? Она предсказуема: репрессии вместо аргументов. Эмир при поддержке семи муфтиев и семи казыев-судей выносит фетву против Курсави. Книги учёного сожжены, самому ему грозит смертная казнь…
Курсави вынужден покинуть Бухару, он возвращается на родину. Но скоро из‑за доносов бухарских судей ему придётся уехать и из родной деревни. Улем отправится с группой учеников в хадж, всё ещё пытаясь проповедовать свои взгляды. И умрёт на чужбине, в Стамбуле.
ИДЕИ НЕ УМИРАЮТ
Идеи Курсави не были восприняты большинством его современников. Его логика и талант полемиста, говорят, пугали казанское духовенство, не готовое к богословским дискуссиям. А сам улем был убеждён: ценности ислама удастся сохранить только тогда, когда каждый мусульманин будет самостоятельно понимать суть Божьего Слова. Не было крамолы, по сегодняшним меркам, и в призывах Курсави к самостоятельному толкованию Корана, отказу от устаревших мнений богословов…
Но пройдут десятилетия, и Курсави назовут родоначальником движения обновления в татарском мире. Габденнасыр Курсави, напишет его духовный ученик Шигабутдин Марджани, «силой своего ума открыл волшебный замок хранилища Просвещения, взял оттуда науки, вырастил перед народом драгоценные цветы и раздал их народу».
ШИГАБУТДИН МАРДЖАНИ
30 марта 1850 года. Имамом-мударрисом Первой Казанской мечети назначают молодого богослова Шигабутдина Марджани… Он проработает здесь до конца жизни, а Первая Казанская станет носить его имя. В историю Марджани войдёт как выдающийся татарский историк, религиозный филосов-реформатор и просветитель.

Расцвет его научной деятельности пришёлся на 70–80-е годы XIX столетия. Именно в эти годы вышли труды Марджани, принёсшие ему известность в мусульманском мире. Знаковым событием, позволившим говорить об этом богослове как об одном из идеологов религиозного реформаторства своего времени, стал выход в 1870 году в Казани его книги «Назурат алхакк…» («Обозрение истины…»).
КРИТИКА СПЕКУЛЯТИВНОЙ ТЕОЛОГИИ
Следом появляются и другие религиозно-философские труды Шигабутдина Марджани. Из наиболее известных – «Китаб ал‑хикма ал-балига ал-джания фи шарх ал‑акаид ал-ханафия» («Книга о зрелой философии, помогающей объяснить догматы ханафитов»). Марджани делает акцент на критике вопросов калама – спекулятивной теологии, комментирует основы акиды – догматики ислама.
Одновременно Шигабутдин Марджани находит своё место в татарском просветительском движении, активно занимаясь педагогической деятельностью. Учёный становится первым представителем татарского духовенства, взявшимся за преподавание вероучения в Казанской татарской учительской школе.
ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
В 1900 году, уже после смерти Марджани, увидела свет его книга «Мустафад ал‑ахбар фи ахвал Казан ва Булгар» («Кладезь сведений о делах Казани и Булгара». Казань, 1897–1900, на тат. яз.), которая заставила научный мир говорить о нём как о первом татарском историке, обратившемся к проблеме этногенеза татарского народа. Но поистине эпохальным стал другой, рукописный труд учёного – «Вафият ал‑аслаф ва тахият ал-ахлаф» («Подробное о предшественниках и приветствие потомкам»). Эта титаническая работа, которую Марджани писал на протяжении всей жизни, по сути, первый в России энциклопедический словарь об известных деятелях исламского мира.
Формируя «Вафият ал‑аслаф ва тахият ал-ахлаф», учёный изучил огромное количество первоисточников – от древних преданий, надписей на нагробных камнях, археологических находок до арабских, персидских, тюркских рукописей. По своей структуре основная часть труда Марджани скомпонована в виде словарей, где биографии учёных, правителей, других известных личностей излагаются в определённой последовательности, в зависимости от годов их смерти.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА
Всего в «Вафият ал-аслаф...» включены более шести тысяч биографий учёных, писателей, философов и общественно-политических деятелей, живших в период с VII века – начиная с года смерти пророка Мухаммеда. Естественно, это не простое изложение фактов, собранных предшественниками. Оценивая их сквозь призму собственного мировоззрения, Марджани даёт свою оценку многим историческим событиям. Больше того, в сочинении учёного немало оригинальных материалов, впервые введённых им в научный оборот. География таких материалов – Поволжье, Урал, Средняя Азия, Кавказ, Крым периода XVII–XIX веков.
В томах «Вафият ал-аслаф...» собраны сведения об учёных, общественных деятелях Востока, внёсших важный вклад в различные области духовной культуры, развитие прогресса. Часто это личности, известные далеко за пределами мусульманского мира.
Важно, что, относя историю к традиционным наукам, таким как толкование Корана, придерживаясь сложившегося ещё в средневековой мусульманской культуре представления об этой дисциплине, Марджани тем не менее видит её в новом свете. По Марджани, наука история – это не просто фиксатор прошедших событий, но и изучение причин, эти события породивших. Учёный особо выделяет социальный аспект исторических явлений, тем самым выступив новатором толкования исторической науки татарского народа.
«Вафият ал‑аслаф ва тахият ал-ахлаф», утверждают исследователи, – яркий пример преемственности и связи культур мусульманских народов и заметная веха в исследовании их истории. Недаром уже в наше время Шигабутдина Марджани назовут Геродотом татарского мира.
ГАБДУЛЛА БУБИ
Середина 90-х годов XIX века, медресе Иж-Буби. Здесь, в сельской глуши, задумывают создать ни много ни мало – новую систему образования, способную обеспечить прогресс нации. Инициатор перемен в Иж‑Буби – мулла Габдулла Буби. Его последователь и единомышленник – старший брат Губайдулла.
.jpeg)
Методы преподавания, отношения между наставниками и учениками, программа обучения… Революционные перемены в медресе видны невооружённым глазом. Здес теперь изучают татарский, русский, арабский, персидский языки, литературу, математику, физику, химию… По-новому преподносят шакирдам и богословские науки – это теперь не только повторение и заучивание догм…
Можно предположить, как негодуют имамы – ортодоксы и учителя старометодных медресе. Но у братьев крепкий тыл. «В эти восемь лет мы, благодаря нашему покойному отцу, не подвергались преследованиям и проклятьям противников реформы, – напишет Габдулла Буби в своих воспоминаниях. – Ибо вместо нас он доказывал необходимость нового метода и реформирования школ, все споры на эту тему вёл он, и так как был учителем всех мулл в округе и превосходил их всех в знаниях, не давал им даже возможности раскрыть рот».
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ГАСПРИНСКОГО
Реформаторские идеи Габдуллы Буби рождаются не на пустом месте. В отчем доме царит культ знаний, родители – образец служения просвещению, старший брат Губайдулла всерьёз увлекается философией. Здесь нет никаких запретов на свободу мысли. Габдулла изучает труды Шигабутдина Марджани, читает газету «Тарджеман» Исмаила Гаспринского, чьи идеи джадидизма уже начинают завоёвывать умы.
Когда в 1895 году Габдуллу назначают указным муллой, он уже горячий сторонник идей Гаспринского. Этот год – начало реорганизации Иж-Бубинского медресе, к которой Буби приступает, получив отцовское благословение. Спустя несколько месяцев, завершив учёбу в передовом стамбульском «Мектебе мулькиеи шахане», возвращается старший брат Губайдулла, он тоже с жаром включается в работу.
Сестра Мухлиса вместе с жёнами братьев – не последние лица в реализации грандиозного проекта. Им приходится осваивать методы обучения, разработанные братьями, взять на свои хрупкие плечи реформирование женского медресе.
ХАКЫЙКАТЬ – ЗНАЧИТ ИСТИНА
Как воспринимали эти перемены, наконец, самих реформаторов и их идеи те, для кого всё делалось? Вот свидетельство, оставленное потомком Джамалом Валиди: «Он приводил в изумление молодёжь, у которой только-только начала пробуждаться мысль, своей смелостью в религиозных вопросах. Не знаю, было ли другое произведение, так способствовавшее потере авторитета ортодоксального духовенства и крушению старых медресе? Многие из приехавших в Буби учиться, и я в том числе, были лица, прочитавшие «Хакыйкать» и стремившиеся услышать эти мысли из уст самого автора».
«Хакыйкать» («Истина») – наиболее известный богословский труд Буби. Проанализировав аяты Корана, учёный, в частности, пришёл к выводу, что «составление завещания, как и закят, разрешено делать на пути Всевышнего, в пользу нации»…
В своих сочинениях Буби доказывал, что прогресс науки и знания отнюдь не создаёт безверия, наставлял: ислам требует от верующих собирать знания всюду. Он предостерегал своих читателей от фанатической вражды с наукой, призывал учить в медресе географию и другие естественные науки.
ОБРАЗЕЦ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Как и Шигабутдин Марджани, Буби считал ислам идеологией, наиболее отвечающей принципам равенства и братства между людьми, отвергающей социальную несправедливость. Естественно, молодёжь потянулась сюда за светом знаний! Инспектор народных училищ Сарапульского уезда, ознакомившись в 1903 году с новометодным учебным заведением, отметит: «По общей постановке медресе в Иж‑Бобье стоит значительно выше, посему учителя русско-татарских школ сравнивают его с магометанской академией». К этому времени в Иж-Бобью, в глубинку, за знаниями едут уже из Москвы и Уфы, Ташкента и Казани, Симбирска и Астрахани…
Ещё через пять лет здесь получат право готовить учительниц татарских женских школ и выдавать официальные свидетельства. Габдулла Буби: «Эта женская школа была самой реформированной и первой начала выпускать мугаллим».
Медресе Иж‑Буби теперь – образец реформирования для других медресе, и не только в европейской части империи. А Мухлиса Буби, возглавляющая женское медресе, – признанный авторитет в мире просвещённого ислама (в 1917‑м она станет первой в исламском мире женщиной-кадием. – Прим. ред.).


Добавить комментарий