
Путешествие в обратно я бы запретил…
Мемуарный очерк Зайтуны Ареткуловой
05 ноября 2020
В год 75‑летия Великой Победы над фашизмом в редакцию «Татарстана» ещё чаще стали приходить воспоминания о героях той далёкой войны. За свою столетнюю историю журнал опубликовал их немало. Сначала рассказывали сами очевидцы событий, потом о них – их дети, теперь вот внуки и правнуки. Очередной рассказ про такого героического деда прилетел к нам из Франкфурта-на-Майне. Зайтуна Ареткулова родилась в год победы, в 1945-м, в Башкирии. Воспитывалась в семье деда, старого большевика, участника Гражданской и Великой Отечественной войны Рахматуллы Альбаева. В 1998 году с мужем и сыном переехала в Германию. Воспоминания о послевоенном детстве вылились у неё в мемуарный очерк «Путешествие в обратно я бы запретил…».

…Мне трудно представить себе свои ранние годы без бабушки Хатимы̀ и дедушки Рахматуллы̀ . Без них моё детство было бы, наверное, совсем другим, да и я была бы другая. Но и их закатные годы без меня тоже сложились бы по-другому. Я привнесла в них тот свет и радость, в которых они так нуждались. А жизнь их, надо сказать, не баловала. Две революции, три войны, голод и лишения начала 1920‑х годов, смерть семи из десяти родившихся детей... И даже их молодость – светлая пора в жизни каждого человека – пришлась на один из самых тяжёлых моментов нашей истории.
Достаточно сказать, что к моменту их знакомства за плечами у деда было уже три года окопов Первой мировой войны, которую он прошёл от звонка до звонка, будучи стрелком сапёрной команды 257-гоЕвпаторийского полка 9-й армии. Правда, обошлось без ранений, но зато был отравлен газами, в связи с чем полгода провалялся в госпитале. А ещё заслужил солдатский Георгиевский крест IV степени. Его давали за храбрость. Именно там, в окопах Юго-Западного фронта, освоил он по-настоящему русский язык, бывший для него неродным (в селе Киргиз-Мияки, где он вырос, была только татарская школа-семилетка), а главное – приобщился к политике и стал, что называется, человеком идеологическим, навсегда порвав с религией.
Правда, в своих политических предпочтениях он определился не сразу. Во всяком случае, летом 1917 года, когда в войсковых частях создавались выборные солдатские комитеты, а его самого избрали делегатом на состоявшийся в Харькове съезд солдатских депутатов 9‑й армии, он не примкнул ещё ни к одной из политических партий. Ну а грянувшая вслед за тем Октябрьская революция объявила об одностороннем выходе России из войны, и армия окончательно развалилась. Солдатская масса разбрелась по домам, и 22-летнему Рахматулле Альбаеву не оставалось ничего другого, как вернуться в родное село, чтобы зажить там мирной жизнью, от которой он порядком отвык, не подозревая, что это ненадолго.
Вот тут и сосватали родители ему невесту из соседней деревни, красивую и ладную 18-летнюю Хатиму. За ней, между прочим, было немалое приданое: швейцарские настенные часы фирмы «Мозер» и ножная швейная машинка «Зингер», купленные моим прадедом у заезжих купцов, а кроме того, корова и овцы, да ещё сундук разного добра – подушки из гусиного пуха, постельное бельё, метры шерстяных и шёлковых тканей, лисьи и беличьи меха... Для него, бывшего батрака из бедняцкой семьи, проработавшего до призыва в армию несколько лет по найму у богатых сельчан, это имело некоторое значение. Но главное, девушка ему понравилась.
Свадьбу сыграли в начале 1918 года, но семейное счастье длилось недолго. В сущности, то была короткая пауза, передышка между двумя войнами – Первой мировой и Гражданской. И Рахматулла не может остаться в стороне. Без колебаний идёт он защищать свою кровную, как он считает, Советскую власть. Добровольцами записываются в армию и оба его брата. И в течение трёх лет мотает его по разным фронтам. А за ним как нитка за иголкой следует и его молодая жена.
Сохранилась фотография времён Гражданской войны. Рахматулла – высокий, подтянутый красавец, на голову выше стоящей по левую от него руку жены, в длинной, до пят, шинели и высокой каракулевой папахе, с лихо закрученными кавалерийскими усами. Твёрдый, прямо в камеру, взгляд чуть сощуренных глаз – лучше не попадайся. На обороте фотографии надпись: «Оренбург, 1920 г., комиссар эскадрона особого Московского конного полка». А ведь уволился он из царской армии в звании рядового и, значит, всего за год-полтора поднялся до командира среднего звена (комиссар и командир были тогда практически равны друг другу). Так быстро росли в ту пору люди. Но комиссар – это значит ещё и член партии большевиков, в которую он вступил в 1919 году. И хотя его партстаж был к тому времени невелик, но он уже сознаёт себя солдатом партии, непоколебимо верящим в её догматы, и эту веру он сохранит до конца дней.
В его послужном списке – участие в боях против Деникина на Южном фронте и под началом командарма Блюхера на Восточном. При этом хотелось бы обратить внимание на его первую должность, с которой начал он свою службу, – заведующий конным двором, и на последнюю – казначей Восточной экспедиции Всероссийского кавалерийского штаба, что‑то вроде ремонтёра, ответственного за закупку лошадей. То есть и тут и там он при лошадях, к которым всегда был неравнодушен. А кавалерийская стать сохранялась у него до конца 30‑х годов. «Так красиво сидеть и скакать на лошади мог только он», – вспоминали односельчане. Ну а в качестве казначея распоряжается большими суммами, в которых отчитывается и которые ему доверяют. И это его ответственное отношение к казённым деньгам, на которое не раз указывала бабушка, сыграет немалую роль в дальнейшем, когда в начале 1930‑х годов он станет директором организованного им в Киргиз-Мияках отделения Госбанка.
«Но миром кончаются войны…» Пришёл конец и Гражданской войне, и людей, семь лет не выпускавших из рук оружия, распустили по домам. И тут неожиданная развилка судьбы. По разнарядке Всероссийского кавалерийского штаба дедушку направляют на работу на московский конезавод. Работа, о которой он мог только мечтать! Да к тому же заманчивая возможность ему, провинциалу, переселиться в столицу, где он никогда не бывал. Можно ли было не принять такое предложение? И конечно, он бы его принял, если б не бабушка. Наверное, впервые он, глава семьи, прошедший огонь и воду, привыкший командовать людьми, послушался тихого голоса своей подруги, уговорившей его отказаться от соблазна и вернуться в Киргиз-Мияки. Что ею двигало? Может быть, интуиция, подсказавшая, что не будет им счастья в красной столице и что дедушке с его прямолинейным, не знающим компромиссов характером там не ужиться? Жёны нередко оказываются мудрее своих мужей, и последующий ход событий подтвердил её правоту.
Да, жены он послушался, но его комиссарский характер остался при нём, как и мечта о социалистическом переустройстве деревни. И, едва вернувшись в родное село, он принимается за её реализацию, что совпадает отчасти с трендом государственной политики.
Тут надо сказать, что 1920‑е годы – это был золотой век советской деревни. Почти восьмилетняя война окончена. Голод, тифозные эпидемии, скудный быт и лишения эпохи военного коммунизма остались позади. В стране введён НЭП – новая экономическая политика, разрешившая свободную торговлю и товарообмен между городом и деревней, воспрянувшей после трёх лет принудительной продразвёрстки… А кроме того, в одном пункте революция таки выполнила своё обещание и земля – правда, до поры до времени, – перешла в распоряжение сельских хозяев, получивших её в безвозмездное пользование. В общем, перед дедушкой открылось широкое поле деятельности. Вот её основные этапы:
1923 г. – организация товарищества по совместной обработке земли (в составе 50 дворов);
1924 – 1925 гг. – член правления сельскохозяйственного кредитного товарищества;
1925 – 1928 гг. – председатель Миякинского волостного исполкома;
1927 г. – организация колхоза «Игенче» («Пахарь»);
1928 – 1931 гг. – председатель универсального сельскохозяйственного товарищества.
Всё это запечатлено в сохранившихся у меня документах. Причём, следует заметить, когда дедушка попытался в 1927 году организовать в своём селе колхоз на 30 дворов, записав туда всю свою многочисленную родню, он немножко забежал впереди паровоза, на два года опередив полномасштабную кампанию по коллективизации деревни (к счастью, этот его эксперимент продлился недолго). При этом по отношению к несогласным он уже тогда пробовал применять методы принуждения, о чём говорит его конфликт с братьями Зиннатуллой и Гайзуллой, купившими на паях сеялку и закопавшими её подальше от глаз деда, чтобы не сдавать в колхоз. Дело чуть не дошло до смертоубийства, когда младшие с вилами бросились на старшего, и только малая грань отделяла их в тот момент от кровопролития. Но всё‑таки авторитет деда в семье был велик, так что даже религиозные праздники, как вспоминала впоследствии одна из его своячениц, родственники справляли от него тайком, зная, что он как атеист этого не одобряет.
…Ну а в 1931 году мы находим его уже на посту управляющего Киргиз-Миякинским отделением Госбанка. Ещё один поворот в судьбе, ознаменовавший его переход в сословие совслужащих. Для башкирской глубинки дело это было совершенно новое, с прицелом на будущее, и дедушка тут один из первопроходцев. И он смело пускается в это рискованное плавание, не боясь принимать на себя ответственность, как не боялся её в годы Гражданской войны, куда бы ни бросала его партия.
Где и когда успел он обучиться банковскому делу? Наверное, на каких‑то курсах, которых в его жизни было великое множество и благодаря которым он рос не только в деловом, но и в культурном отношении, и в этом смысле нельзя не отдать должное Советской власти, которая немало тому способствовала. Помню, как жаловалась бабушка: «Бывает, в самое горячее время, когда ни хватишься, а его нет – опять на каких-нибудь курсах. Нужно копать картошку или заготавливать дрова на зиму, а он на учёбе». Однако учёба эта приносила свои плоды, а иначе как бы он, имея за плечами всего лишь татарскую семилетку, приобщился к основам банковского делопроизводства? Пять лет проработал он советским банкиром, пока в 1936 году его не перебросили на лесозаготовительную отрасль – председателем межрайонной конторы Башлеспромсоюза, а затем назначили директором совхоза в Аси-Ялани. Это сказочной красоты место в предгорьях Урала (в переводе с башкирского оно означает Кислая Поляна) было, однако одним из островков ГУЛАГа, а сам совхоз – подсобным хозяйством с расположенными в окрестностях маслозаводом, коровником, телятником, предназначенными в то голодное время снабжать мясными и молочными продуктами башкирскую партноменклатуру. А его костяк составляли бывшие раскулаченные, которых свозили сюда в начале 30‑х годов. И тут же, в километре от посёлка, была выстроена колония для политзаключённых с охраной, вышками и сторожевыми собаками.
В то опасное время работа эта была подобна хождению по тонкому льду (достаточно сказать, что его предшественника на посту директора совхоза в 1938 году расстреляли), но дед как солдат партии принимает её без рассуждений. Однако к работникам своего хозяйства, оказавшимся в этих местах не по своей воле, он относился с сочувствием и, насколько мог, пытался облегчить их участь. Это выражалось, в частности, в его отношении к их детям, которым он помогал получить образование, выписывая им путёвки в техникумы и вузы, поскольку выходцам из семей раскулаченных доступ в эти заведения был закрыт. Помню, как после смерти дедушки нас навестила одна женщина, узнавшая о его смерти из некролога в городской газете, чтобы рассказать, скольким она ему обязана и что без него высшего образования ей бы не видать.
Великая Отечественная – третья в его жизни война – застала дедушку на военно-учебных сборах под Оренбургом, и больше он домой уже не вернулся. Его старшая дочь Зайтуна, учившаяся к тому времени в Уфимском училище искусств, успела съездить попрощаться с отцом, и это было последнее их в жизни свидание. Весной 1942 года она уйдёт добровольцем в армию и погибнет в боях на подступах к Сталинграду (по официальной версии, пропадёт без вести), воюя, между прочим, на том же участке фронта, что и отец, в каких-нибудь ста километрах от него, но не подозревая об этом.
Да, свой боевой путь дедушка начал под Сталинградом, а закончил в Потсдаме, то есть от берегов Волги дошёл до Германии. Правда, не в пехоте, не в артиллерии, а лейтенантом интендантской службы, но всё равно можно сказать, что судьба его хранила. Ведь в Сталинграде он воевал в той самой знаменитой 62‑й армии генерала Чуйкова, что отстаивала последние метры сталинградской земли, обеспечивая под огнём переправу через Волгу. Вот как описана эта переправа во фронтовых записках Василия Гроссмана: «Жуткая переправа. Страх. Паром полон машин, подвод, сотни прижатых друг к другу людей, и паром застрял, в высоте Ю-88 пустил бомбу. Огромный столб воды, прямой, голубовато-белый. Чувство страха. На переправе ни одного пулемёта, ни одной зениточки. Тихая светлая Волга кажется жуткой, как эшафот». Выжить в этом аду было уже везение, а дедушка даже не был ранен. Впрочем, сам он не любил об этом рассказывать. Известно только, что свою первую фронтовую награду – медаль «За боевые заслуги» – он получил «за бесперебойное снабжение 193‑й стрелковой дивизии боеприпасами и продовольствием», которые доставлялись с того берега Волги.
А тем временем в далёком тылу бабушка и две её младшие дочки держали свой фронт, и не сказать, чтобы легче воюющего. Присланный из Ленинграда новый директор, не посмотрев, что это семья фронтовика, выселил бабушку с детьми из дома, который понадобился ему самому, в холодный, мало приспособленный сарай, где они прожили самый трудный 1942 год. А всего за эти четыре военных года хлебнули они выше головы. Многое из этого хорошо описано в книге уроженки Аси‑Ялани Тамары Фёдоровой «Уральский ГУЛАГ на Кислой Поляне».
«Не хватало хлеба, многие остались без картошки, так как рано в 1942 году выпал снег. Подбирали мёрзлую картошку, сушили и пекли из неё лепёшки. Не было мыла, приходилось его варить из костей. Не хватало одежды и особенно обуви. По этой причине дети не могли ходить в школу или, если из одной семьи, ходили по очереди, через день. А летом все от мала до велика работали в поле. <…> Работали от темна до темна. А поскольку все мужчины были на фронте, женщины и подростки сами валили лес, пилили дрова и возили их на быках или на коровах».
Знал ли дедушка, каково там, в далёком тылу, приходится его семье? Теперь об этом трудно судить, ведь за исключением писем Зайтуны не сохранилось ни одного письменного свидетельства военной поры. К тому же он был очень наивен в житейских делах и, возможно, просто не задумывался. И всё же настоящего представления о том, как жили без него его близкие, думаю, он не имел, потому что не прислал из Германии ни одной продуктовой посылки, как поступало большинство советских офицеров, – ни до, ни после дня победы, который встретил, как уже было сказано, в Потсдаме.
...Но отлистаем пару лет назад, чтобы хотя бы вкратце упомянуть то, что этому дню предшествовало (увы, информация, которой я располагаю, очень скудна, а сам дедушка «путешествий» в то страшное прошлое избегал). Итак, после Сталинграда был Воронежский фронт, где он воевал в составе 23-й стрелковой дивизии 47-й армии. В моём архиве есть также две благодарности Главнокомандующего, которые дед получил за взятие ж/д узла Лунинец и за освобождение г. Пинска (оба в Брестской области) летом 1944 года. За ними последовала Польша, о чём свидетельствует медаль «За освобождение Варшавы». И наконец, на завершающем этапе войны – участие в Восточно-Померанской операции, где советским войскам противостояли отборные части СС под командованием самого рейхсфюрера Гиммлера, и увенчивающий её орден Красной Звезды – за взятие города Альтдамм (ныне Щецин, Польша). Что стояло за этим Альтдаммом? По всей вероятности, то была одна из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны, стоившая нашим войскам около 80 тысяч жизней, потому что плацдарм был буквально нашпигован огневыми точками, железобетонными дотами и надолбами и окружён заполненными водой противотанковыми рвами, отрытыми здесь ещё в 1933 году, когда сооружался так называемый Померанский вал на бывшей польско-германской границе. Так что можно без преувеличения сказать, что этот единственный за войну дедушкин орден дорогого стоил. А вот выше старшего лейтенанта он так и не поднялся
Но, с другой стороны, за четыре года войны он не получил ни единой царапины, только контузию. Правда, контузию не из лёгких, оставившую свой след в виде односторонней потери слуха и отразившуюся отчасти на его характере (по рассказам бабушки, он вернулся с войны каким‑то взрывным, раздражительным и напряжённым).
И, однако, на фотографии, снятой через месяц после победы в Потсдаме, в группе таких же младших офицеров, это не чувствуется. Наоборот, он выглядит на ней каким‑то просветлённым, с новым, необычным для него выражением лица, какого не было на довоенных снимках. Говорят, война меняет людей, весь вопрос – в какую сторону. Но в случае дедушки, думаю, в лучшую. Во всяком случае, ни до, ни после я не помню его таким красивым, подтянутым, выглядящим много моложе своих пятидесяти лет, со светящимся умом взглядом...
Ещё полгода прослужил дедушка в составе оккупационных войск в Германии, пока в январе 1946 года не был наконец отпущен на все четыре стороны. А с какими же «трофеями» вернулся он домой? Специально перечислю их здесь, потому что те, кто помнит, с какими чемоданами и баулами возвращались из Германии советские офицеры, а тем более интенданты, какие везли ковры, хрусталь, радиоаппаратуру, предметы мебели, набивая ими доверху фронтовые полуторки, не смогут без улыбки смотреть на этот перечень:
- Детский прикроватный коврик с вышитыми на нём птичками и надписью «Guten Morgen».
- Детские туфельки – 1 пара.
- Две пары женских туфель на каблуках.
- Вышитый кухонный фартук.
- Золотое колечко. Тётя Аня его долго потом носила.
Вот так, с этого коврика, и началось моё с дедушкой знакомство. Его возвращение ознаменовалось и ещё одним событием: мне дали наконец имя. Так получилось, что первые четыре месяца я жила без имени. Ждали возвращения дедушки, надеялись в глубине души, что объявится пропавшая без вести Зайтуна, а потому с именем решили повременить до их возвращения. Но со дня победы прошло уже восемь месяцев, и дедушка понял: не объявится, и постановил назвать меня в её честь. И, зажав сердце в кулак и не давая себе никакой передышки, приступил к выполнению своих директорских обязанностей. Потому что дела в совхозе обстояли гораздо хуже, чем он представлял это оттуда, из поверженной Германии.
Жили так, будто война для сельчан и не кончалась. Почти половина мужского населения не вернулась с войны – словно стальной бороной прошлась она по Аси-Ялани. А из тех, что вернулись, едва не половина была увечных. В своей книге Тамара Фёдорова добросовестно их перечисляет: «Голубкин Семён на одной ноге. Матвеев Тимофей с разорванным лёгким. Фёдоров Василий с ампутированными нижними конечностями. Жалилов Аюп с заплатанной головой. Новожжёнов Михаил с протезом ноги. Кто‑то вернулся весь израненный и вскоре умер».
Вот такое покалеченное и бедствующее воинство было теперь под началом у дедушки, и полагаться приходилось в основном на женщин, от чего за войну он успел отвыкнуть. Его внешний вид на фотографии, снятой год спустя: ссутулившиеся плечи, потухший взгляд, жёсткая складка у рта – говорит сам за себя – от победного, праздничного настроя не осталось и следа. Отвык он и от нравов, которые царили в тылу. Там, на фронте, хоть и была рядом смерть, но всё было по-честному. А здесь повсюду «двойная бухгалтерия» и прав прежде всего тот, кто умеет угодить начальству и ладить с «органами». Но дедушка этого понимать не хотел. Так, однажды – это было уже в Петровском – на очередном партийном собрании он отвёл кандидатуру начальника местного НКВД, которого прочили на какой‑то выборный пост, и взамен его предложил… себя. А ведь в ту пору подобный поступок был просто самоубийственным, и когда бабушке стороной донесли об этом, она несколько дней жила в страхе, что её старика посадят. Но пронесло. А вот в Аси-Ялани несколькими годами раньше не пронесло.
В тот год в совхоз нагрянула очередная комиссия из райкома партии. В ту пору их было много, и везде было принято их ублажать, кормить обедом, давать в дорогу корзинки с «дарами природы». Но дедушка повёл себя так, будто ему об этом ничего не известно. Однако и члены комиссии не догадывались, с кем имеют дело, и ждали того, что им положено. А когда, не дождавшись, собрались уезжать, недовольный председатель комиссии сказал, что было бы неплохо, если бы дедушка дал ему в дорогу бочонок мёда (он знал, что в совхозе есть пасека). На что тот не моргнув ответил: «Вот когда у меня будет своя личная пасека, я сам привезу вам целую бочку мёда».
Ничего не сказав, председатель повернулся и уехал, но дерзости этой ему не простил. Нужен был лишь повод, чтобы расправиться с наглецом, и такой повод вскоре представился. Вероятно,
он сам же и наслал на дедушкино хозяйство ревизию, перед которой была поставлена задача во что бы то ни стало найти какое-нибудь финансовое нарушение. А долго ли его найти, если в те времена ни один хозяйственник не мог и шагу ступить, чтобы не нарушить какую-нибудь инструкцию, которые душили и сковывали инициативу? Чаще всего это было нецелевое расходование отпущенных средств. Например, вместо сооружения коровника директор перебрасывал бригаду плотников на строительство детского сада, потому что дояркам не на кого было оставить маленьких детей, в результате чего хозяйство лишалось рабочих рук, и это сейчас же ставилось ему в вину. В общем, какое‑то нарушение у дедушки нашли и за ним последовали санкции: строгий выговор по партийной линии и отстранение от работы. Слава богу, хоть не отдали под суд.
Вот так и случилось, что в январе 1947 года дедушка стал объездчиком Селеукского лесничества. И с этого момента его карьера покатилась как под горку. Уж очень неудобен он был для начальства.
…И как же безжалостно топчет его судьба! Та самая Советская власть, за которую он воевал, которой отдал все силы души и весь свой жизненный опыт, которые тоже, наверное, чего-нибудь да стоят, не ценит его ни в грош. И того, кто всю жизнь числил себя солдатом партии, перебрасывают и швыряют, словно футбольный мяч. А ведь каждое его новое назначение – это почти всегда и очередной переезд. И как же, должно быть, устала бабушка от этой неустроенной жизни, главные трудности которой ложились на её плечи. Но она молчала.
Впрочем, артель «Заря» – это уже Петровское, и там мы обосновались надолго. Потому что следующее место дедушкиной работы – Макаровский райпромкомбинат – находилось там же, в Петровском, и его директором он проработал до выхода на пенсию.
Но ведь каждая новая должность – это и новый дом, который надо обживать и обустраивать заново. Я немного помню наш первый дом в Петровском, сырой и холодный, так что окна зимой промерзали насквозь, а оттаивающая влага стекала с подоконника в специально подвешенную бутылочку. Зато новый дом дедушка выстроил сам. Он вырос за одно лето почти на моих глазах, и было в нём тепло и просторно, и всем нам было в нём хорошо. И не случайно именно там протекли лучшие мои детские годы.
Ну а в 55‑м году последовал новый переезд, на этот раз уже по воле дедушки. В тот год ему исполнилось шестьдесят и он вышел на пенсию. Вполне мог бы работать и дальше, но так распорядилось начальство. И потянуло его снова в Аси-Ялань, с которой были связаны самые его светлые предвоенные годы. Здесь прошло его успешное директорство, отмеченное откомандированием его в 1940 году на Московскую сельскохозяйственную выставку. Здесь выросли его дочери, и отсюда ушла на фронт Зайтуна, самая из них любимая. Да и для всей семьи то была самая благодатная, самая безоблачная пора. Но не зря говорят: нельзя войти дважды в одну и ту же воду. Ничего хорошего из этой затеи не вышло.
Прежде всего встал вопрос, как быть с домом. Ещё не зная, что этот переезд ненадолго и что в Аси‑Ялани ему предстоит пробыть меньше года, он решает дом продать. Вряд ли удалось получить за него настоящую цену, да и не умел он торговаться. И хоть побывал когда‑то в кресле управляющего отделением Госбанка, но в том, что касалось его лично, коммерсантом он был никаким. Вот и получилось, что дом ушёл почти за бесценок, а вырученные деньги уплыли неизвестно куда.
Мне было тогда уже десять лет, и я хорошо помню этот наш переезд. Была весна, последние числа апреля, и всё было в цвету. Я никогда не бывала в горах и не предполагала, что это так красиво. Дорога вилась серпантином по склону горы, а далеко внизу под нами шумела река. Её берега были покрыты цветущей черёмухой, напоминавшей белую пену. И сквозь эту пену пробивались снизу отдельные дымки – это в самодельных печах на берегу обжигали известь.
В Аси‑Ялани мы поселились рядом с колонией, куда дедушка устроился кладовщиком, в барачного типа домике на две семьи. Другую его половину занимал начальник колонии. Но это была уже не та колония сталинских времён с колючей проволокой и часовыми на вышках. Шёл 1955 год, до XX съезда оставалось девять месяцев, и ветер перемен коснулся и Аси-Ялани. Так что настоящего режимного лагеря я уже не застала. Не знаю, как заключённые, но мы на территорию колонии проходили свободно и дважды в неделю смотрели там кино. Помню, как один заключённый учил меня кататься на велосипеде, причём довольно странным способом. Намотав на руку конец бельевой верёвки, он цеплял другой к моему велосипеду, я садилась на подушку, привязанную взамен седла (ноги не доставали до педалей), и он пускал меня под гору. Не знаю, чего он этим достигал, но надо благодарить Бога, что во время этих «занятий» я ничего себе не сломала…
…В Аси‑Ялани сбылась, наконец, заветная дедушкина мечта и он смог обзавестись собственной лошадью. Сколько лошадей прошло через его руки, а вот своей не было никогда. А он всегда питал к ним слабость и жалел, почти как людей. Сохранилось воспоминание одного аси-яланьского жителя, как однажды – это было ещё до войны – он шёл в сильный ливень и повстречал на дороге дедушку, но даже не сразу сообразил, что он такое видит. Впереди дедушки шагала лошадь, укрытая его плащом, а сам он шёл следом, подставив голову хлещущим струям дождя.
Вот так он о них заботился. Но на этот раз ему попалась лошадь, которая действительно требовала человеческого ухода, потому что сама была уже ни на что не способна. Её нельзя было даже запрячь в телегу, так она была стара. Бабушка иронизировала, что на эту лошадь ушла половина денег, вырученных за дом. Но, наверное, дедушка просто её пожалел. Он каждый день водил её на водопой, чистил скребницей, подкашивал для неё траву, продлевая тем самым её век, хотя пользы от неё не было никакой.
А тем временем аси-яланьское лето катилось к концу, пришла осень, и дедушка затосковал. Работа кладовщиком была ему не по нутру, и он ею тяготился. И тогда он решил попытать счастья в других краях. Он состоял в переписке со своей дальней родственницей, которая жила в Ташкенте, и она предложила ему приехать посмотреть, как они живут, может быть, ему там понравится. Он взял отпуск и поехал. И в первый же свой ташкентский вечер, заглянув на алайский базар, встретил там односельчанку, которую знал ещё по 30-м годам. Это была Сатира̀ , первый муж которой работал директором МТС и в конце 30‑х годов был репрессирован. Его расстреляли, но она, даже не дожидаясь приговора, взяла в охапку сына и, побросав в сумку какие‑то вещи, уехала куда глаза глядят. Так она оказалась в Ташкенте. И даже не в Ташкенте, а в маленьком городке в 30 км от него – Янгиюле. И она зазвала дедушку к себе в гости. Там она познакомила его с Мустафой, своим вторым мужем, крымским татарином, попавшим сюда в конце войны вместе с другими депортированными соплеменниками, и оба они стали уговаривать дедушку переселиться сюда насовсем. И даже пожить у них на первых порах, благо места в доме достаточно.
Жизнь постоянно била дедушку, но она же поселила в нём лёгкость на подъём и охоту к перемене мест. А кроме того, научила его ценить и отличать хороших людей. И, при всей своей внешней деловитости и немногословности, он был отзывчив на всякое проявление доброты и сердечности. А Сатира и её муж были именно этого десятка, они быстро почувствовали друг в друге родственную душу. Дедушка осмотрел дом, ухоженный сад с виноградником, вишнёвыми и яблоневыми деревьями (Мустафа был совхозным агрономом). Всё здесь радовало глаз: и плети изабеллы, укрывавшие густым пологом врытый в землю стол, и вековая, в три обхвата, чинара, разбросавшая по всему саду свои могучие ветви, и крупные, с голову ребёнка, георгины, и низкий глиняный дувал, позволяющий, не вставая на носки, заглянуть во двор к соседу, – всё то, чего он никогда не видал у себя Башкирии. И подумалось ему, что, может быть, в этом благодатном краю он сможет обрести наконец тот душевный покой, которого так не хватало в его беспокойной полукочевой жизни. И он сказал, что принимает предложение. А вернувшись в Аси-Ялань, сообщил бабушке о своём решении.
Предстоял ещё один переезд, самый на этот раз кардинальный. За всю свою жизнь бабушка никогда не покидала Башкирии, если не считать смутных лет Гражданской войны, и ей было немного не по себе. Но возражать деду она, как всегда, не стала.
В первых числах марта из совхоза пришла машина. Мы погрузили весь наш скромный скарб, и машина тронулась. Но не успели мы отъехать и двадцати метров, как услышали позади тонкое блеяние. Это наши козы, почуяв неладное, увязались за нашей машиной, будто поняли, что расстаются с нами навсегда. Так хотелось спрыгнуть и обнять их на прощание. Но машина прибавила ход, и они исчезли в дорожной пыли. А мы с бабушкой сидели и плакали…
Иллюстрация: «Дети мира», Алексей и Сергей Ткачевы
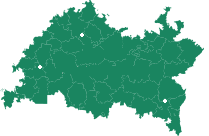

Добавить комментарий