
Близкая душа
Он соединил в себе кровь отца с могучим языком Ивана Бунина и Юрия Казакова. Так образно оценил творчество Рустема Кутуя писатель Альберт Лиханов. Сын известного татарского писателя, погибшего в Великую Отечественную, Рустем Кутуй творил на русском языке, язык его прозы, удивительно поэтичный и невесомый, восхищал самых предвзятых критиков. Его рассказы, по словам Лиханова, до предела акварельны: «Возникает чувство, что ты попал в мир, где совсем не так, как в соседней книге. Писатель как бы стирает с обыкновенных вещей пыль привычности, и перед нами новыми красками сияет мир, внушающий доброту и надежду». Может быть, потому, что в рассказах автора отражается та реальность, которая досталась ему из детских снов и воспоминаний. Лица, пейзажи, предметы – всё чуть размыто, как на картинах импрессионистов...
12 сентября 2023
Рустем Кутуй
К старой татарке я приходил пить молоко. Садилось солнце, и я бежал по краешку оврага. У баньки, заросшей крапивой, мычал телёнок. Верёвка от колышка ползла по траве. Здесь было совсем тихо. Из оврага поднималась лёгкая сырость, и деревья дышали. Побитые ступни отдыхали на холодной тропе, я задерживался у забора и ел вишню. Телёнок глядел на меня, вытягивая морду. Тихонько звякал бубенчик. Я вздрагивал – из вишнёвого куста, не моргая, таращилась птица. Не улетала, сидела, как приговорённая. Последнюю горсть я подносил телёнку, гладил его по шишковатой голове.
Накануне хозяйка сказала:
– Гостей ждёт. – И прищелкнула языком. – Свадьба!
До меня не сразу дошло – бубенчик смолкнет, у бани станет пусто.
Я взбегал чуть наверх и открывал калитку. Собака бросалась навстречу с жаркой обнажённой пастью. Цепь гремела по натянутому проводу, клыки взмывали надо мной, застывали в воздухе и обрушивались вниз. Собака ложилась ничком на землю, обметая позади себя хвостом. Так она делала всякий раз, усталая, навсегда прикованная цепью. Злость стала её уделом, шерсть дыбилась на загривке, глаза взблёскивали, лай разрывал грудь, но чуть погодя она сникала, точно стыдилась, выжидательно взглядывая на меня. Я бросал ей кусок булки или пряник. Хозяйка уже стояла на крыльце в цветастом сарафане, повязанная ослепительным платком, с большой глиняной кружкой в руках.
– Эч, улым.*
Меня не надо было уговаривать. Молоко медленно проливалось по горлу свежим теплом, белые крупные капли падали на грудь, и я самым уголком глаза видел, какой сумасшедший у меня загар, хоть пиши по коже веточкой, едва касаясь, и получится, как мелом на чёрной доске. Трусы накрывали содранные коленки, кружка светилась дном, подле хозяйки ходили надутые куры, и в мире горело затухающее солнце. Я присаживался к собаке, не боясь её оскала. Она словно перекатывала на зубах горошины, голова её, слепленная из светлого пепла, покоилась под моим коленом. Я знал, она – волк. Её принесли из близкого леса слабым волчонком и выкормили молоком коровы. От волка у неё остался дикий, устремлённый двумя клинками беспощадный взгляд. Она всё время принюхивалась, озиралась, вздрагивала на открытом светящемся воздухе, потому, видно, что ветер приносил последождевой запах леса. А двор потихоньку закисал, засыпанный золой помёта.

Ещё на проводах качались ласточки. Прямо на поленницу низвергались кусты вишни. В саду о землю стучали яблоки.
Была середина августа на самом солнечном срезе. Чёрными вечерами по деревне гуляла гармошка, жалостливая, потерянная.
Я прощался с хозяйкой и брёл в пионерский лагерь. Мать пристроила меня на сладкий август к лагерной врачихе – будто бы я родственник её или ещё какая близкая душа. Они так обо мне и договорились.
– Может же у тебя быть на свете близкая душа? Да и кому какое дело! Никого он не объест. Пусть бродит, где хочет, – купается, падает с деревьев, ничего с ним не случится. Насчёт молока я договорилась и заплатила вперёд. Не соскучитесь.
– А если он меня запрезирает?
– Он? Что ты, золотко. Я тебя научу: если у тебя оборвётся пуговица, дай ему пришить. Он – моментом. Поладите, увидишь.
Я дал слово в жизни не пришивать пуговиц. Как только мать уехала, я перепробовал все лекарства, которые приятно пахли. И заболел. Два дня глядел в стену и обливался потом. Тётя Лиза, так звали врачиху, умирала и плакала вместо меня. Ночью я вылез в окно и стал валяться, как собака, по облитой луной траве. Голова горела, даже будто распухала, а кожа потрескивала.
А по деревне гуляла гармонь. Ночь обступала меня жёлтая, вперемешку с серебром и тушью. Я вдруг, не зная отчего, завыл, обмирая, вытянувшись на траве. Затявкала поблизости от бездомной трусости собачка. Ни один свет не падал из окон. Холодная роса жгла грудь. Я выл длинно, отчаянно, и болезнь уходила из меня.
Потом я согревался под одеялом. Прошлёпал к кровати тёти Лизы и стал глядеть на неё в упор. Она охнула спросонья и завскрикивала:
– Ой, кто здесь?! Ой, кто здесь! Нельзя… нельзя…
– Я выздоровел, – сказал я, присев на корточки. – Давай чего-нибудь есть будем. Слыхала, кто‑то выл, а?
– Ничего не слыхала. Кто выл?
– Я.
Тётя Лиза окончательно проснулась, села, завёрнутая в одеяло.
– Брось мне халат. А чего придумаем поесть?
– Сейчас, – сказал я. – Чашки поставь на стол.
Я промелькнул через забор и улицу, упругий, как крепкий кулачок. Поначалу похватал с грядки лук. Его уже прижали к земле доской. Пошарил огурцов. Есть! С вишней я управился совсем быстро, она сама просыпалась в миску. Сверху я положил два красных яблока.
Деревня спала на робком свету, как в топлёном молоке. Корочки ржаных крыш плавали в тумане. У меня везде были свои тропки и ходы. Я их не искал, они отыскивали меня сами. И в домик тёти Лизы я всегда входил через окно, размыкая беззвучно раму.
– Ух ты! – качнулась она. Руками пробежала по груди. – С таким мужиком не пропадёшь. Всё это мы накрошим, и чего будет? Утренник, ага? Вот здесь садись и уплетай, сколько можешь. Картошку я с вечера сварила, как чуяла, выздоровеешь.
– Пуговица нигде не оборвалась? – спросил я.
– Господи…
– Я тебе пришью, не думай… А ты сегодня с утра делай уколы, я на них погляжу. Пускай побоятся. Прямо перед линейкой делай, чтобы в галстуках были. Писклям по два делай.
– У меня и лекарств не хватит.
– Найдёшь, жалко, что ли.
– Найду, – успокоила она меня.
– Давай мне первому, а то опять заболею.
– Что ты! – испугалась. – Вон какой здоровенький.
– Ладно, поем и купаться пойду, позабыл, как плавать надо.
Так мы подружились с тётей Лизой. Она была рыжая, как сердце ромашки, и в белом халате. Синие колокольчики вылезали из кармашка, как будто всегда там росли.
День мой был моментальный, как глоток ключевой воды. Я и оглянуться не успевал, а над головой уже висели звёзды. Здесь, у Волги, они были словно высоко заброшенные сухие косточки вишни. Иногда срывались, падали, и я поднимал к небу лицо. Под обрывом белели камни. Я обхватывал рукой сосну, чтобы не сорваться вниз. Вода ворочалась большой рыбой и всхлипывала. Я ждал, когда обожжётся о темноту пароход. Он появлялся огромный и пылающий, казалось, обёрнутый посверкивающей слюдой. Каждый раз там играла музыка, на палубе стояли задумчивые люди. Я угадывал, молчат они или смеются, сочинял их разговоры: «Пойдёмте пить лимонад с печеньем». «Ах, конечно. Только немного ещё побудем на воздухе». «А вон там на бугре кто‑то стоит. Вы видите?» «Ерунда, это дерево». «Нет, человек!» «Да дерево!» «Тогда я пойду один пить лимонад с печеньем».
И ещё у меня была потеха. Я пристраивался на видном месте перед вечерней линейкой и ожидал своего часа. Пионеры выстраивались, чтобы опустить флаг и спокойно отправиться спать. Они беспокоились, как мыши, и что‑то там грызли и что‑то там шептали, а барабан стучал сердито и глухо.
Я начинал бить комаров. Уж я себя отхлопывал на совесть, даже ладони горячили. И пионеры следом за мной нещадно начинали веселиться, приплясывать шеренгами. А я, как дирижёр, дубасил воздух и пыхтел от усердия. На меня шикали вожатые, но я не думал униматься… Перед самым концом, а я его чувствовал нутром, я незаметно смывался. На другой день менял место, и «комариный бой» вспыхивал с тройной силой.
Тётя Лиза меня встречала на крылечке, тихая, приготовленная ко сну. На коленях лежала раскрытая книга, но темень уже сгущалась, и тётя Лиза просто отдыхала, прислушиваясь к комарам. Они слетались к золотистой голове.
– И как ты не мёрзнешь в одних трусах, – выговаривала она мне. – Опять заболеешь, что я буду делать? А ещё дожди пойдут, у нас‑то печки нет. Комарья стало, просто дышать нечем, в горло залетают.
Ей нравилось поговорить со мной под соснами. Я пристраивался рядышком, вытянув ноги. От кончиков пальцев лёгким покалыванием поднимался зуд, и коленки пламенели.
– Скоро снова учиться начнёшь. Поди, не хочется?
– Конечно. Целыми днями на трамваях катался бы.
– И ничего интересного.
– В окно глядеть. Бесплатная киношка.
– А если контролёр? «Позвольте ваш билетик…»
– Я у него под рукой пролезу.
– Уж ты лучше учись. Теперь войны не будет, война далеко. У меня там хороший человек остался. Насовсем.
– Ага, погиб. Мать моя тоже страдает.
– А ты?
– Ну… и я. Страдаю. Без отца нам бедно.
– И мне бедно.
– Пойду ноги мыть. Вот сандали возьму и ноги пойду мыть. Ноги не снашиваются, им чего. Говорят, в них правды нет. Дураки говорят. Я их помою, как новенькие станут. Заблестят.
– Молока попил?
– Попил.
– Будем укладываться спать. Я соберу немного поесть, пока моешься.
Вечера в августе были ласковые, притомлённые. Я сбегал к реке опрометчивой лесенкой и, бросив в сторонку сандали, взрывал воду. Переворачивался на спину, успокоив руки. Вокруг меня дробилась мелкая волна, а я полёживал себе пластом, едва‑едва лишь шевеля ногами, радовался свободной жизни. В теле усмирялась быстрота, и я слышал, как наступает абсолютная лёгкость, будто сам я всплывший пузырёк воздуха, привычная для воды плавуница. Пионеры, те при купании маялись – туда нельзя, там волна смоет, и визжали, и поёживались, а вожатые прямо‑таки стремились оглушить реку из горластого рупора. Какая ж это жизнь!.. А я в неделю стал звонким, питался любой ягодой и бодался с заборами, как шальной бычок. Тётя Лиза сдавливала мои плечи:
– Ох, и мужичок растёт, девкам на слёзы.
Поев, я отворачивался к окну, а тётя Лиза глядела на себя в зеркало. Свечка обсыпалась каплями на блюдце. Тётя Лиза вздыхала, шуршала одеждой или слабо посмеивалась, обсуждая перемены:
– Старею я, Рената. Изливаюсь свечечкой. Мне бы только сыночка, как ты, золотая была бы я. Я ведь и зову тебя Ренатой, как никто другой, чтобы отдельная промеж нас родственность была. Ты не обижайся.
– Чего мне обижаться. Зови как хочешь.
– А я ждала его с войны, радость копила. А радость вся и сгорела в танке. Господи, кричал он, наверное. Лучше б его сразу убило, чтобы огонь не взял. Рассказывали мне, как он перемучился. Моё имя говорил. Эх, и пожили бы мы…
А я уже думал, какую бы ей штуковину принести, замечательную, весёлую, чтобы тётя Лиза не омрачала себя далёкой думой. Только не придумывалось у меня, сон настилался, пахнущий тёплой сосной.
– Я тоже об отце мучаюсь. И мать, как ты, в зеркало смотрит. Холодно, говорит, а в дому печь трескает. Трескает…
И в глаза мне сыпались искры. Над крышей передвигались сосны, оглаживали воздух ветвями, провеивались, роняя просушенные иголки.
Утром пел горн. Я прислушивался, отвыкая от сна. Гремели рукомойники. За окном толкался о скамью баран, глухой и глупый. Маленькая пчела скользила по стеклу. Тётя Лиза появлялась на пороге со сковородкой, словно и не спала, а всю ночь жарила глазунью.
И так день ко дню, как свежие, пропитанные солнцем бруски для просторного дома. Мужики на соседней улице рубили избу голубыми топорами, загорелые, точно купанные в масле, и широко разлеталась светлая смолистая щепа. Обильным на солнце выдался август, лишь по глубине оврагов хоронилась сырость, где выходили наружу чистые ключи и устаивались в ложбинах зеркалами. У меня там было своё притаённое местечко, поверху сплошь обросшее крапивой. Я сидел там иногда на обмытом гладком камне, опустив в лёгкую сбегающую воду ноги. Никому не было до меня дела, и застань кто-нибудь здесь, не сразу бы и угадал, где крапива, а где я – настоящий человек. Сюда и звуки не проникали, только пела своё вечная вода и похрустывали изредка суставами сосны.
Но однажды я услышал плач в сплошном перевитом кустарнике. Пошёл на возникший голос, карабкаясь по склону. Девочка плакала козлёнком, ни для кого, себе в утешение. Она и вскрикивала изредка, точно её щекотали, а потом вдруг начала икать от окончательной растерянности. Получалось, что она так забавно пускает пузыри. Открылась она мне, лёгонькая, на коротком пеньке, в маячке и трусиках, с красной лентой в совсем соломенных волосах.
– Эй! – позвал я. – Не бойся. Чего здесь ходишь?
– Мальчик, хорошенький, спаси меня, – запричитала она. Ну точь-в-точь козлёнок. – Я тебя до самой смерти помнить буду. Босиком я. По шишкам. Вся‑вся искололась…
Шпарила, как наизусть приготовила. И слёзы пропали, грязь на щеках осталась, худая‑ худая девочка и красивая.
– Ходи за мной, – сказал я. – Дома, что ли, нету?

– Лагерская я. Мы с тобой потом печенье есть будем. И не жалко мне, – засмеялась, счастливая, ни с того ни с сего. – Другие ночью грызут. Я думаю, что они там делают, а они грызут. Под одеялами. Я думаю, а вдруг язык откусят, и говорю: «Кппп, мыши страшные! Качается чёрный гроб, качается…» Это чтобы как в сказке.
– Ух ты, а сама трусиха.
– Мне потому что больно. Я заблудилась. Притащил я её к своему камню, усадил.
– Мойся, – сказал я, – пей. Такой воды нигде нету.
– Крапивой вся обожглась, божьих коровок ловила.
Сам того не ожидая, я погладил её по волосам, такой она мне показалась маленькой и беззащитной. Но девочка вдруг ударила по моей руке, и некрасивая гримаса покрыла её лицо.
– У тебя же цыпки! – обожгло меня. – Ты не лагерский.
Полез я наверх, не оглядываясь, кусая на ходу колокольчики.
– Погоди, – звала девочка, – погоди! – Долго звала. И голос её затихал.
А в домике тёти Лизы у стола сидел тёмный мужчина и курил длинную папиросу. Булькало в стакан вино. На рукаве блестела рыбья чешуя. Перевязанный бинтом палец глядел в сторону. Створка рамы упиралась в мой затылок.
– Если желаете, я вам рыбки привезу. Через день могу возить. Судачков подберу, стерлядки.
– Не беспокойтесь. Нехорошо столько пить.
– А мы сегодня гуляем, вот и палец взрезал. Костёр у нас. Что ли пригласить вас, женщина вы прекрасная?
Он был чубатый, весёлый и широко разводил руками. Глаза глядели прямо в тётю Лизу. Мужчина и ей в чашку налил вина, но тётя Лиза поднесла ко рту руку и прижмурилась маленько.
– Чего тут думать, – нажимал голосом рыбак. – Гармонь есть – горячая жизнь есть. Без памяти хочу жить. Выпьем, Лиза, отпылали мои дороги, теперь без памяти жить буду!
– Эк вы какой. – И выпила одним громким глотком, надкусила яблоко. – В другой раз, – сказала, – для костра больше хворосту запасайте, чтобы до утра хватило.
– Можно и в другой раз, как прикажете.
Я испугался: умыкнёт он тётю Лизу своей раненой рукой, костром завеселит, вон как расселся, привалившись к моей кровати, табуретку проломит. Обежал я дом и выстукнул коленкой дверь.
– Сынок, что ли? – радостно удивился мужчина.
– Сынок, – сказала тётя Лиза.
– Войной поднесённый… – непонятно добавил мужчина.
– Волка приведу, он тебе даст! – кинулся я на него. – Бинтов не хватит.
– Сам и есть волчонок, – не рассердился рыбак. – Мы ж друзья с доктором. Правда, Лизавета Павловна?
– Хворосту собирайте, – весело откликнулась она. – А волка привести он точно может. Не шутит. Честное слово.
При мужчине она и говорила, и двигалась по-другому. Тень от неё накрывала меня и успокаивала.
– Обедать мы собираемся, – сказала твёрдо.
– Так я заеду, заеду, – поспешил рыбак. – Спасибочко вам за подмогу. Хворосту отборного для пылу заготовлю.
И снова я ждал выскальзывающего из‑за поворота реки, удивительного в темноте парохода, принимал в душу свободную, проливающуюся на воду музыку. И возвращался к домику, собрав в кепку вишню. И опять тётя Лиза сидела перед зеркалом, освещённая пламенем свечи, одинокая, как сосна на обрыве.
Ни о девочке, ни о рыбаке я больше не вспоминал.
– Рената, а можно жить без памяти? – спрашивала меня тётя Лиза.
Но я не отвечал, делал вид, что сплю. Скоро свеча гасла.

Голубая лошадь под снегом
Памяти Салиха Сайдашева, прекрасного композитора и человека
От погасшего фонаря падала зыбкая тень. Наверху играл снежный рой – сплетался, расплетался, дышал. По другую сторону обледенелой дороги, мощённой булыжником, стояла лошадь с санями, тёмно-голубая, как загустевший смороженный воздух... В чёрной подворотне топтался возчик. Лошадь обволакивалась паром.
Синяя от лёгкого морозца мостовая выгибала спину. Над ней колыхалось белое крыло, так казалось. А он всё не уходил от фонаря. Вот уже час. Хотя бы о столб опёрся. Я с угла на угол сбегал два раза галопчиком, перестукал палкой все решётки, снегу летучего наглотался – а он всё стоит в шляпе и стоит. Заносит его, а он отряхивается.
– Дяденька, чего вы здесь стоите? – осмелел я.
– Ты гуляй, – вздрогнул он. – Гуляй.
– Ждёте кого, да?
– Никого не жду. Снег слушаю.
– Ну да! – озадачился я. – Какое бестолковое дело.
– Вот слушаю, не мешай. Спать тебе пора.
– Дома гости, – сказал я.
– Какие гости, когда война?
– Чай пьют с сахарином. Меня гулять отпустили. Мне что!
– Так никого ж на улице. Лошадь и я, да ты вот. Снег ещё. Пусто, холодно.
Слышишь?
– Чего?
– Снег. Он гладится, его много. Лошадь совсем сгорбилась. Устала коняга. Из деревни бежала через поле, а дома – никого. Всю ночь и простоит, бедная. У неё думы в голове. Туман. Гости...
Не со мной он говорил, а сам с собой. Не оборачивался. Про шляпу забыл, а она вот‑вот скатится от тяжести небесной.
– А ты почему не воюешь?
– У меня кости старые.
– Тогда зачем мёрзнешь?
– Снег слушаю. Издалека он летит. Сквозь людей.
– Ты кто?
– Не поймёшь, мальчик. Я музыкант. Мне без музыки нельзя, я умру тогда. У тебя дома гости, а у меня старые кости, такие дела. А там – ухает, земля проваливается.
– Где, где?
– Там... – Он махнул рукой за снег, за темноту.
Этот перекрёсток называют «штаны». Одна улица расходилась на две улочки и утекала вниз. В центре, как замок, уходил к облаку дом с башенками, тяжёлый, бегемотового цвета. По соседству плескал флагом стадион. А мы стояли на театральном углу, как приговорённые. И чего надо торчать здесь?
– Пойдём, брат.
– Куда?
– Ко мне. Я здесь и живу. Вот ворота железные.
– В самом театре? Снег послушал, послушал, теперь спать будешь.
– Нет, я, как лошадь, ждать буду. Снегу собрал, – сказал он непонятно. И сгорбился.
– Где же он? – растерялся я.
– Так не руками же.
Отодвинув щеколду, зашли в калитку. Лязгнуло железо. Гул пробежал наискосок за спину, к лошади понурой.
– Как же тебя одного отпускают в темноту? Фонари и то не горят. Я по привычке тут стоял под старым огнём, который был когда-то.
– Я сам прошусь. Кто меня тронет?
– Да-а, брат.
От него пахло свежим холодом. Я и сам был холодный, а он – вовсе. Пока я носился с угла на угол, снег просыпался с меня. Спахнуло ветром, сдышало. А он тихо стоял у погасшего фонаря, обсыпался снегом вдоволь, ему греться – не отогреться. Изо рта пар не идёт, изнутри, видать, замёрз, а за пазухой теплынь, поди. Он же голову склонял, и дыхание на грудь сходило. Мы с ним оба подустали.
– Тут темно – лестница. Считай ступеньки, пятнадцать всего. Умеешь? Нука, ну-ка, поработай.
Я стал громко считать, и голос мой выходил наружу светящимися звуками, распадался на лету. Кажется, дотронуться можно до собственного голоса.
Глухая чернота обступала.
– Как тебя зовут?
– Казбек. Я с горы скатился, мать говорит. Когда обвал был.
– А меня – Салих. Я вместе со снегом пришёл на землю. Опустился. Снег то вверх летит, то вниз. Замечал? – А как же!
– Да ты молодец. Вот и я летаю туда-сюда: то вверх, то вниз. Зимой мне хорошо. Во мне снег тает. Он будто загадки подбрасывал мне.
Дома, наверно, и с картами управились. Нагадались: король, треф, дама бубей...
– Пришли, – сказал он. И постучал.
Я пообвыкся с тьмой, ухватился за шершавый рукав. Где кончалась его голова, там слабо‑слабо угадывался свет. На лестнице пахло скудной едой – днём пекли картошку и свёклу – кожура пригорела.
Дверь отодвинулась, превозмогая тяжесть, протащилась войлоком. Заколебалась коптилка, как синий мотылёк.
– Хо-одишь, хо-одишь. Когда-нибудь замёрзнешь, если водочки не поднесут, – сказал старый голос.
– Со мной товарищ.
– Пьяница, за версту почуяла.
– Она с темнотой ругается, – тронул он меня за плечо. – Она спала, вот ей и плохо. Разбудили. Не видит ничего. Здесь холодно. Пошли туда.
Коридорчик поглотил нас.
– Свечу зря не жги, – проводил вздох.
Протиснулись в дверь. Тут был другой запах – дерева и бумаги, едой не пахло.
– Не потерялся? Сейчас я зажгу свечу. Две могу зажечь по случаю знакомства. Всё теплей станет. Мне друг свечи привёз, обрадовал. Без огня человек шерстью зарастёт.
Чисто всплыл язык пламени, лизнул пустоту. Другой от него оторвался. Два языка стали дразниться. И тут же выскользнул чёрный огонь полированного дерева – пианино! И во мне заликовал марш солдатиков «Тари-тари-дам! Таритари-дам!» У меня уже были воспоминания. Я вспомнил себя на солнечном паркете детского сада.
«Маршируем под Турецкий марш Моцарта!» – прозвучал голос красногубой тёти Нины. Но я её отодвинул легонько от себя, чтобы она не вспоминалась, а марш оставил. – Что это ты замаршировал? Садись в кресло, а я поиграю. Руки застыли.
Шляпу он поставил, как большую чашку, между свечами кверху дном. Круглые капли исчезающего на глазах снега вбирали свет, разбухали. За свечами, как в круглой, прокопчённой раме, стояло лицо, тоже оттаявшее, припухшее. Мерцало глазами. И в них таял лёд. Рук я не видел. Пальто он только набросил на плечи.
Музыка была о снеге, я догадался. Снег то взлетал, то опадал, жил вокруг, дотрагивался до головы, едва‑едва прикасался холодком, замирал. Снег прилетел оттуда, где отец сидит в окопе. Посидит со мной маленько и соберётся назад к отцу. «Жив твой Казбек, музыку слушает...»
Снег закрыл меня совсем, с головой упрятал.
– Да ты, брат, спишь. Угостить нечем. Пойдём, пойдём, я провожу тебя. О часах забыл. Мать твоя, может, у ворот ходит.
И опять мы проволоклись по лестнице. Под веками скопился жёлтый, истекающий воском свет. Вытекал слезами. Мне отчего-то жалко было одинокого человека, зажатого языкастыми свечами. Жалко тихую музыку. Себя жалко. Мать, отца в окопе жалко. Меня придавила темнота. Я будто сверху поглядел на всё, приподняло куда‑то меня осторожненько, а внизу осталась покинутая заиндевелая лошадь с санями, полными морозного сахара, остался человек в шляпе под ослепшим фонарём, задумчивый до холода в груди, и сам я подле, в телогрейке, в скособоченных валенках. Впервые такое случилось со мной – без зеркала разглядеть себя со стороны, уменьшенным до жалости...
– Тебя принёс спящим какой‑то человек. Красивый мужчина, – сказала утром мать. – Где ты был? Он ничего не объяснил. Показалось, я знаю его. Он приложил палец к губам и ушёл. Я пробовала задержать, а он сказал: «Пусть гора спит под снегом...» Это что же значит? Ах, да ты же Казбек. Кто он?
– Музыкант, – сказал я. – Мы с ним замёрзли.
– Где он тебя подобрал?
– Там была лошадь с санями. Каток рядом, театр. Мы зашли во двор. У меня голова ещё спит.
– Ты не договариваешь.
– Он зажёг свечи. Играл. Я и заснул. Снега было много.
– А при чём здесь снег?
– Снег то вверх летит, то вниз.
...В снежный, с ослепительным морозцем день его хоронили. Я был уже студентом. Узнал вдруг, с запозданием. Никто не называл его имени, но вокруг точно всё переменилось.

Я вышел под снег, падающий густо, обильно, мягко. Словно легко стало снегу. Он накрыл меня, как прихлопнул всем пушистым верхом небес.
Я сошёл с горки к саду, пересёк его пустынность. Снег вёл меня к тому фонарю, я догадался уже на другом холме, том самом – здесь стояли мы с ним в тот снежный вечер. И сердце трепыхнулось, как крупная серебристая рыба.
Темно было от народа на снегу. Его выносили из растворённых настежь дверей театра.
Я подошёл чуть ближе, но не оторвался совсем от фонаря. Вздрогнул: на противоположной стороне стояла та же снулая, обнесённая паром лошадь с санями. Не уходила она, что ли, никуда за эти годы?
Его пронесли мимо под широкую музыку. Снег обтекал голову. Мне померещилось, он чуть сместился лицом, силился повернуться ко мне, забыл что-то сказать. «Какой снег, а! Да-а, брат...»
Люди, опечаленные, продвигались за ним, приподнятым самой музыкой.
Никто из них не был посвящён в нашу тайну.
Это была музыка той ночи, грустная, как прощание со снегом. Может быть, тогда поделили мы одну на двоих, как тёплую краюшку хлеба, ночь одиночества, которую освещали сны людей.
* Пей, сынок (тат.).
Фото: knigogid.ru, pngegg.com
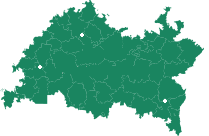

Добавить комментарий