ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА. Часть первая (Отрывки из романа)
Десять лет назад я являлась мамой трудного подростка. Учителя не уставали мне жаловаться на моё чадо. Особенно доставалось от учительницы русского языка и литературы – она вызывала меня в школу и часами перечисляла мне грехи ребёнка, среди которых в основном фигурировали двойки за «не по стандарту написанное сочинение», почерк «как курица лапой» и «насмешливый взгляд», которым «ваш ребёнок сопровождает каждую поставленную двойку в журнале». На выпускном, расставаясь, мы обменялись любезностями: учитель демонстративно издала вздох облегчения, а я подарила ей «Педагогическую поэму» Макаренко. Из почты «Татарстана»
1. Разговор с завгубнаробразом
В сентябре 1920 года заведующий губнаробразом вызвал меня к себе и сказал:
– Вот что, брат, я слышал, ты там ругаешься сильно… что твоей трудовой школе дали это самое…
– Да как же не ругаться? Какая там трудовая школа? Накурено, грязно! Разве это школа?
– Да… Для тебя бы: построить новое здание, новые парты поставить, ты бы тогда занимался. Не в зданиях, брат, дело, важно нового человека воспитать, а вы, педагоги, саботируете всё: здание не такое, столы не такие. Нету у вас этого самого… огня, знаешь, такого – революционного. Штаны у вас навыпуск!
– У меня как раз не навыпуск.
– Ну, у тебя не навыпуск… Интеллигенты паршивые!.. Вот ищу, ищу, тут такое дело большое: босяков этих самых развелось, мальчишек – по улице пройти нельзя, и по квартирам лазят. Мне говорят: это ваше дело, наробразовское… Ну?
– А что – «ну»?
– Да вот это самое: никто не хочет, кому ни говорю – зарежут, говорят. Вам бы это кабинетик, книжечки… Очки вон надел…
Я рассмеялся:
– Смотрите, уже и очки помешали!
– Я ж и говорю, вам бы всё читать, а если вам живого человека дают, так вы, это самое, зарежет меня живой человек. Интеллигенты!
Завгубнаробразом сердито покалывал меня маленькими чёрными глазами и из‑под ницшевских усов изрыгал хулу на всю нашу педагогическую братию…
– Вот послушайте меня…
– Ну, что «послушайте»? Скажешь: вот если бы это самое… как в Америке! Я недавно по этому случаю книжонку прочитал, – подсунули. Реформаторы… или как там, стой! Ага! Реформаториумы. Ну, так этого у нас ещё нет. (Реформаториумы – учреждения для перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей в некоторых капстранах; детские тюрьмы).
– Нет, вы послушайте меня.
– Ну, слушаю.
– Ведь и до революции с этими босяками справлялись. Были колонии малолетних преступников…
– Это не то, знаешь… До революции это не то.
– Правильно. Значит, нужно нового человека по-новому делать.
– По-новому, это ты верно.
– А никто не знает – как.
– И ты не знаешь?
– И я не знаю.
– А вот у меня это самое… есть такие в губнаробразе, которые знают…
– А за дело браться не хотят.
– Не хотят, сволочи, это ты верно.
– А если я возьмусь, так они меня со света сживут. Что бы я ни сделал, они скажут: не так.
– Скажут стервы, это ты верно.
– А вы им поверите, а не мне.
– Не поверю им, скажу: было б самим браться!
– Ну а если я и в самом деле напутаю?
Завгубнаробразом стукнул кулаком по столу:
– Путай, а нужно дело делать. Там будет видно. Самое главное, это самое… не какая-нибудь там колония малолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание… Нам нужен такой человек вот… наш человек! Ты его сделай. Всё равно, всем учиться нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты сказал: не знаю. Ну и хорошо.
– А место есть? Здания всё‑таки нужны.
– Есть, брат. Шикарное место. Как раз там и была колония малолетних преступников... Лес, поле, коров разведёшь…
– А люди?
– Может, тебе ещё и автомобиль дать?
– Деньги?..
– Деньги есть. Вот получи.
Он из ящика стола достал пачку.
– Сто пятьдесят миллионов. Это тебе на всякую организацию. Ремонт, мебелишка...
– Посмотреть бы не мешало раньше.
– Я уже смотрел… что ж, ты лучше меня увидишь? Поезжай – и всё. Действуй! Дело святое!
2. Бесславное начало колонии имени Горького
…В лесу поляна, гектаров в сорок. В одном из её углов поставлено пять геометрически правильных кирпичных коробок…
До революции здесь была колония малолетних преступников. В 1917 году она разбежалась, оставив после себя очень мало педагогических следов... По рассказам соседей-крестьян можно было судить, что педагогика тут не отличалась особой сложностью. Внешним её выражением был такой простой снаряд, как палка.
Материальные следы старой колонии были ещё незначительнее. Ближайшие соседи колонии перенесли в собственные хранилища всё то, что могло быть выражено в материальных единицах: мастерские, кладовые, мебель. Был вывезен даже фруктовый сад. Впрочем, во всей этой истории не было ничего, напоминающего вандалов. Сад был не вырублен, а выкопан, стёкла в домах не разбиты, а аккуратно вынуты, двери по-хозяйски сняты с петель, печи разобраны по-кирпичику...
В колонии я застал завхоза Калину Ивановича. Он встретил меня вопросом:
– Вы будете заведующий педакокической частью?
– Почему? Я заведующий колонией…
– Нет, – сказал он, вынув изо рта трубку, – вы будете заведующий педакокической частью, а я – заведующий хозяйственной частью.
Калина Иванович сделался первым объектом моей воспитательной деятельности. В особенности меня затрудняло обилие у него самых разнообразных убеждений. Он с одинаковым вкусом ругал буржуев, большевиков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность. Но его голубые глаза сверкали такой любовью к жизни, что я не пожалел для него небольшого количества педагогической энергии. И начал его воспитание:
– Как же так, товарищ Сердюк, не может быть без заведующего колония? Кто-нибудь должен отвечать за всё.
Он вежливо склонился к моему лицу:
– Так вы желаете быть заведующим колонией? И чтобы я вам в некотором роде подчинялся?
– Давайте я вам буду подчиняться.
– Я педакокике не обучался, что не моё, то не моё. Вы ещё молодой человек и хотите, чтобы я, старик, был на побегушках? Так тоже нехорошо! А быть заведующим колонией – так для этого ж я ещё малограмотный, да и зачем это мне?..
Калина Иванович отошёл от меня. Надулся. Целый день он ходил грустный, а вечером пришёл в мою комнату уже в полной печали.
– Я думав, думав... И решив, что вам, конешно, лучше быть заведующим, а я вам буду как бы подчиняться.
– Помиримся, Калина Иванович.
– Я так тоже думаю, что помиримся.
Не святые горшки леплять, и мы дело наше сделаем.
Мы приступили к работе.
Для организационного периода была поставлена вполне уместная задача – концентрация материальных ценностей, необходимых для воспитания нового человека. В течение двух месяцев нам удалось при помощи деревенских специалистов кое‑как привести в порядок одну из казарм бывшей колонии: вставили стёкла, поправили печи, навесили новые двери. В области внешней политики у нас было единственное, но зато значительное достижение: нам удалось выпросить в опродкомарме Первой запасной сто пятьдесят пудов ржаной муки. Иных материальных ценностей нам не повезло «сконцентрировать».
...Прибыли в колонию две воспитательницы: Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна. В поисках педагогических работников я дошёл было до полного отчаяния: никто не хотел посвятить себя воспитанию нового человека в нашем лесу – все боялись «босяков», и никто не верил, что наша затея окончится добром. И только на конференции работников сельской школы нашлось два живых человека. Я был рад, что это женщины. Мне казалось, что «облагораживающее женское влияние» счастливо дополнит нашу систему сил.
Лидия Петровна была очень молода – девочка. Она недавно окончила гимназию и ещё не остыла от материнской заботы. Завгубнаробразом меня спросил, подписывая назначение:
– Зачем тебе эта девчонка? Она же ничего не знает.
– Видите ли, мне иногда приходит в голову, что знания сейчас не так важны. Эта самая Лидочка – чистейшее существо, я рассчитываю на неё, вроде как на прививку.
– Не слишком ли хитришь? Ну, хорошо…
Зато Екатерина Григорьевна была матёрый педагогический волк. Она не на много раньше Лидочки родилась, но Лидочка прислонялась к её плечу, как ребёнок к матери. У Екатерины Григорьевны на серьёзном красивом лице прямились почти мужские чёрные брови. Она умела носить с подчёркнутой опрятностью каким‑то чудом сохранившиеся платья, и Калина Иванович выразился, познакомившись с нею:
– С такой женщиной нужно очень осторожно поступать…
Итак, всё было готово.
Четвёртого декабря в колонию прибыли первые шесть воспитанников и предъявили мне какой‑то сказочный пакет с пятью огромными сургучными печатями. В пакете были «дела». Четверо имели по восемнадцати лет, были присланы за вооружённый квартирный грабёж, а двое были помоложе и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты: галифе, щегольские сапоги. Причёски их были последней моды. Это вовсе не были беспризорные дети:
Задоров, Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд и Таранец.
Мы их встретили приветливо. У нас с утра готовился особенно вкусный обед, кухарка блистала белоснежной повязкой; в спальне, на свободном от кроватей пространстве, были накрыты парадные столы; скатерти с успехом заменили новые простыни...
Я сказал речь о новой, трудовой жизни, о том, что нужно забыть о прошлом, что нужно идти вперёд. Воспитанники мою речь слушали плохо, перешёптывались, с ехидными улыбками и презрением посматривали на расставленные в казарме складные койки – «дачки», покрытые далеко не новыми ватными одеялами... В середине моей речи Задоров вдруг громко сказал кому‑то:
– Через тебя влипли в эту бузу!
Остаток дня мы посвятили планированию дальнейшей жизни. Но воспитанники с вежливой небрежностью выслушивали мои предложения – только бы скорее от меня отделаться.
А наутро пришла ко мне взволнованная Лидия Петровна и сказала:
– Я не знаю, как с ними разговаривать… Говорю им: надо за водой ехать на озеро, а один там, такой – с причёской, надевает сапоги и прямо мне в лицо сапогом: «Вы видите, сапожник пошил очень тесные сапоги!»
В первые дни они нас даже не оскорбляли, просто не замечали нас. К вечеру они свободно уходили из колонии и возвращались утром, сдержанно улыбаясь навстречу моему проникновенному соцвосовскому выговору. Через неделю Бендюк был арестован приехавшим агентом губрозыска за совершённое ночью убийство и ограбление. Лидочка насмерть была перепугана этим событием, плакала у себя в комнате…
Екатерина Григорьевна хмурила брови:
– Не знаю, Антон Семёнович, серьёзно, не знаю… Я не знаю, какой тон здесь возможен…
Пустынный лес, окружавший нашу колонию, пустые коробки наших домов, десяток «дачек» вместо кроватей, топор и лопата в качестве инструмента и полдесятка воспитанников, категорически отрицавших не только нашу педагогику, но всю человеческую культуру, – всё это, правду говоря, нисколько не соответствовало нашему прежнему школьному опыту.
...В тот год рано начались снежные вьюги, и весь двор колонии был завален сугробами снега, а расчистить дорожки было некому. Я просил об этом воспитанников, но Задоров мне сказал:
– Дорожки расчистить можно, но только пусть зима кончится: а то мы расчистим, а снег опять нападёт. Понимаете?
Он мило улыбнулся и забыл о моём существовании.
Задоров был из интеллигентной семьи – он правильно говорил, лицо его отличалось той холёностью, какая бывает только у хорошо кормленых детей.
Я вышел из спальни, обратив своей гнев в какой‑то тяжёлый камень в груди. Но дорожки нужно было расчистить, а окаменевший гнев требовал движения. Я зашёл к Калине Ивановичу:
– Пойдём снег чистить.
– Что ты! Что ж, я сюда чернобором наймался? А эти что? – кивнул он на спальни. – Соловьи-разбойники?
– Не хотят.
– Ах, паразиты! Ну, пойдём!
Мы с Калиной Ивановичем уже оканчивали первую дорожку, когда на неё вышли Волохов и Таранец, направляясь, как всегда, в город.
– Вот хорошо! – сказал весело Таранец.
– Давно бы так, – поддержал Волохов.
Калина Иванович загородил им дорогу:
– То есть как это – «хорошо»? Ты, сволочь, отказался работать, так думаешь, я для тебя буду? Ты здесь не будешь ходить, паразит! Полезай в снег, а то я тебя лопатой…
Калина Иванович замахнулся лопатой, но через мгновение его лопата полетела далеко в сугроб…
– Придётся самому за лопатой полазить! – Со смехом они ушли в город.
…Первые месяцы нашей колонии для меня и моих товарищей были не только месяцами отчаяния и бессильного напряжения – они были ещё и месяцами поисков истины. Я во всю жизнь не прочитал столько педагогической литературы, сколько зимою 1920 года…
Главным результатом этого чтения была крепкая и почему-то вдруг основательная уверенность, что в моих руках никакой науки нет и никакой теории нет, что теорию нужно извлечь из всей суммы реальных явлений, происходящих на моих глазах. Я сначала даже не понял, а просто увидел, что мне нужны не книжные формулы, которые я всё равно не мог привязать к делу, а немедленный анализ и немедленное действие…
Всем своим существом я чувствовал, что мне нужно спешить, что я не могу ожидать ни одного лишнего дня. Колония всё больше и больше принимала характер «малины» – воровского притона, в отношениях воспитанников к воспитателям всё больше определялся тон постоянного издевательства. При воспитательницах уже начали рассказывать похабные анекдоты, грубо требовали подачи обеда, швырялись тарелками в столовой, демонстративно играли финками...
И вот свершилось: я не удержался на педагогическом канате. В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. Услышал обычный задорно-весёлый ответ:
– Иди сам наруби, много вас тут!
Это впервые ко мне обратились на «ты».
В состоянии гнева, доведённый до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз.
Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками... Я, вероятно, ещё бил бы его, но он со стоном прошептал:
– Простите, Антон Семёнович…
Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня – я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей…
Я постучал кочергой по спинке кровати:
– Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убираться из колонии к чёртовой матери!
И вышел из спальни.
Пройдя к сараю, я взял топор и хмуро посматривал, как воспитанники разбирали топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не давать воспитанникам топоров в руки, но было уже поздно. Я был готов на всё, я решил, что даром свою жизнь не отдам. У меня в кармане был ещё и револьвер.
Мы пошли в лес. Калина Иванович догнал меня и в страшном волнении зашептал:
– Чего это они такие добрые?
Я рассеянно глянул в его голубые очи и сказал:
– Скверно, брат, дело… Первый раз в жизни ударил человека.
– Ох ты, лышенько! – ахнул Калина Иванович.
К моему удивлению, всё прошло прекрасно. Я поработал с ребятами до обеда. Мы рубили в лесу кривые сосенки.
В перерыве Задоров вдруг разразился смехом:
– А здорово! Ха-ха-ха-ха!..
Приятно было видеть его смеющуюся румяную рожу, и я не мог не ответить ему улыбкой:
– Что – здорово? Работа?
– Нет, а вот как вы меня съездили!
Он залился смехом и, продолжая хохотать, взял топор и направился к дереву:
– История, ха-ха-ха!..
Обедали мы вместе, с аппетитом и шутками, но утренние события не вспоминали. Я себя чувствовал всё же неловко, но уже решил не сдавать тона и уверенно распорядился после обеда. Волохов ухмыльнулся, но Задоров подошёл ко мне с самой серьёзной рожей:
– Мы не такие плохие, Антон Семёнович! Будет всё хорошо. Мы понимаем…

3. Характеристика первичных потребностей
На другой день я сказал воспитанникам:
– В спальне должно быть чисто! У вас должны быть дежурные. В город можно уходить только с моего разрешения. Кто уйдёт без отпуска, пусть не возвращается – не приму.
– Ого! – сказал Волохов. – А может быть, можно полегче?
– Выбирайте, ребята, что вам нужнее. В колонии должна быть дисциплина. Если вам не нравится, расходитесь, кто куда хочет. А кто останется жить в колонии, тот будет соблюдать дисциплину. Как хотите. «Малины» не будет.
Задоров протянул мне руку.
– По рукам – правильно! Ты, Волохов, молчи. Ты ещё глупый в этих делах. Нам всё равно здесь пересидеть нужно, не в допр же идти.
– А в школу ходить обязательно? – спросил Волохов.
– Обязательно.
– А если я не хочу учиться?.. На что мне?..
– В школу обязательно. Хочешь ты или не хочешь, всё равно. Видишь, тебя Задоров сейчас дураком назвал. Надо учиться – умнеть.
Волохов шутливо завертел головой…
В области дисциплины случай с Задоровым был поворотным пунктом. Нужно правду сказать, я не мучился угрызениями совести. Да, я избил воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность, всю юридическую законность этого случая, но в то же время я видел, что чистота моих педагогических рук – дело второстепенное в сравнении со стоящей передо мной задачей. Я твёрдо решил, что буду диктатором, если другим методом не овладею. Через некоторое время у меня было серьёзное столкновение с Волоховым, который, будучи дежурным, не убрал в спальне. Я сказал:
– Не выводи меня из себя. Убери!
– А то что? Морду набьёте? Права не имеете!..
Я взял его за воротник и зашипел в лицо:
– Слушай! Не морду набью, а изувечу! А потом жалуйся, сяду в допр, это не твоё дело!
Волохов вырвался и сказал со слезами:
– Уберу, чёрт с вами!
Я на него загремел:
– Как ты разговариваешь?
– Да как же с вами разговаривать? Да ну вас к..!
– Что? Выругайся…
Он вдруг засмеялся и махнул рукой.
– Уберу, уберу, не кричите!
Нужно, однако, заметить, что я ни одной минуты не считал, что нашёл в насилии какое‑то всесильное педагогическое сред‑ ство. Случай с Задоровым достался мне до‑ роже, чем самому Задорову. Я стал бояться, что могу броситься в сторону наименьшего сопротивления. Из воспитательниц осуди‑ ла меня только Лидия Петровна. Вечером того же дня она положила голову на кулач‑ ки и пристала:
– Так вы уже нашли метод? Как в бурсе, да? (Бурса – общежитие при духовных се‑ минариях и училищах, синоним сурового режима с применением телесных наказа‑ ний. – Прим. ред.).
– Отстаньте, Лидочка!
– Нет, вы скажите, будем бить морду? И мне можно? Или только вам?
Екатерина Григорьевна несколько дней хмурила брови и разговаривала со мной официально-приветливо. Дней через пять спросила:
– Ну, как вы себя чувствуете?
– Прекрасно себя чувствую.
– А вы знаете, что в этой истории са‑ мое печальное? То, что ведь ребята о ва‑ шем подвиге рассказывают с упоением. Они в вас даже готовы влюбиться... Что это, привычка к рабству?
Я подумал немного и сказал:
– Нет, тут не в рабстве дело. Тут как‑то иначе. Вы проанализируйте хорошенько: ведь Задоров сильнее меня, он мог бы меня искалечить одним ударом. А ведь он ниче‑ го не боится, не боятся и Бурун, и другие. Во всей этой истории они не видят побо‑ ев, они видят только гнев, человеческий здрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог бы возвратить За‑ дорова, как неисправимого, в комиссию, мог причинить им много неприятностей. Но я этого не делаю, я пошёл на опасный для себя, но человеческий, а не формаль‑ ный поступок. А колония им, очевидно, всё‑таки нужна. Кроме того, они видят, что мы много работаем для них. Всё‑таки они люди. Это важно.
...Через неделю, в феврале 1921, я привёз полтора десятка настоящих беспризорных ребят. С ними пришлось много возиться, чтобы обмыть, одеть, вылечить чесотку. К марту в колонии было до тридцати ребят. В большинстве они были очень запущены, дики и совершенно не приспособлены для выполнения соцвосовской мечты. Того особенного творчества, которое якобы делает детское мышление очень близким по своему типу к научному мышлению, у них пока что не было…
…Зимой двадцать первого года колония очень мало походила на воспитательное учреждение. Изодранные пиджаки, к которым гораздо больше подходило блатное наименование «клифт», кое‑как прикрывали человеческую кожу. Первые воспитанники, прибывшие к нам в хороших костюмах, недолго выделялись из общей массы; колка дров, работа на кухне, в прачечной делали своё, хотя и педагогическое, но для одежды разрушительное дело.
К марту все наши колонисты были так одеты, что им мог бы позавидовать любой артист, исполняющий роль мельника в «Русалке».
На ногах у очень немногих колонистов были ботинки, большинство же обвёртывало ноги портянками.
Пища наша называлась кондером. Другая пища бывала случайна. В то время существовало множество всяких норм питания: были нормы обыкновенные, нормы повышенные, нормы для слабых и для сильных, нормы дефективные, санаторные, больничные. При помощи дипломатии нам иногда удавалось убедить, упросить, обмануть, подкупить своим жалким видом, запугать бунтом колонистов, и нас переводили, к примеру, на санаторную норму. В норме было молоко, пропасть жиров и белый хлеб. Этого, разумеется, мы не получали, но некоторые элементы кондера и ржаной хлеб начинали привозить в большем размере… Иногда нам удавалось производить такой сильный нажим, что мы начинали получать даже мясо, копчёности и конфеты, но тем печальнее становилось наше житьё, когда обнаруживалось, что никакого права на эту роскошь дефективные морально не имеют, а имеют только дефективные интеллектуально.
…Первичная потребность у человека – пища. Поэтому положение с одеждой нас не так удручало, как положение с пищей. Наши воспитанники всегда были голодны, и это значительно усложняло задачу их морального перевоспитания.
В нашей умопомрачительной бедности была и одна хорошая сторона, которой потом у нас уже никогда не было. Одинаково были голодны и бедны и мы, воспитатели. Жалованья тогда мы почти не получали, довольствовались тем же кондером и ходили в такой же приблизительно рвани. Только Екатерина Григорьевна щеголяла вычищенными, аккуратными, прилаженными платьями.
4. Операции внутреннего характера
В феврале у меня из ящика пропала целая пачка денег – приблизительно моё шестимесячное жалованье. Пачка новеньких кредиток исчезла из запертого ящика без всяких следов взлома.
Вечером я рассказал об этом ребятам и просил возвратить деньги. Доказать воровство я не мог, и меня свободно можно было обвинить в растрате. После собрания ко мне подошли Таранец и Гуд.
– Мы знаем, кто взял деньги, – прошептал Таранец, – только сказать при всех нельзя: мы не знаем, где спрятаны. А если объявим, он подорвёт (убежит) и деньги унесёт.
Гуд смотрел на Таранца исподлобья, видимо не вполне одобряя его политику. Он пробурчал:
– Бубну ему нужно выбить…
– А кто выбьет? – обернулся к нему Таранец. – Ты выбьешь? Он тебя так возьмёт в работу…
– Вы мне скажите, кто взял деньги. Я с ним поговорю, – предложил я.
– Нет, так нельзя.
Таранец настаивал на конспирации.
Утром в конюшне Гуд нашёл деньги.
Их кто‑то бросил в узкое окно конюшни, и они разлетелись по всему помещению. Гуд, дрожащий от радости, прибежал ко мне, и в обоих руках у него были скомканные в беспорядке кредитки.
Гуд от радости танцевал по колонии, все ребята просияли и прибегали в мою комнату посмотреть на меня. Один Таранец ходил, важно задравши голову.
Через два дня кто‑то сбил замок в погребе и утащил несколько фунтов сала. Ещё через день вырвали окно в кладовой – пропали конфеты, заготовленные к празднику Февральской революции, и несколько банок колёсной мази, которой мы дорожили как валютой.
Калина Иванович устремлял побледневшее лицо к каждому колонисту, дымил ему в глаза махоркой и уговаривал:
– Вы ж только посудите! Всё ж для вас, сукины сыны, у себя ж крадёте, паразиты!
В спальне я гневно кричал:
– Вы кто такие? Вы люди или…
– Мы урки, – послышалось с дальней «дачки».
– Уркаганы!
– Врёте! Какие вы уркаганы! Вы самые настоящие сявки, у себя крадёте. Вот теперь сидите без сала, ну и чёрт с вами! На праздниках – без конфет. Больше нам никто не даст.
– Так что мы можем сделать, Антон Семёнович? Мы не знаем, кто взял. И вы не знаете.
Я, впрочем, понимал, что мои разговоры лишние. Крал кто‑то из старших, которых боялись.
На другой день я с двумя ребятами поехал хлопотать о новом пайке сала. Мы ездили несколько дней, но сало выездили. Дали нам и порцию конфет, хотя и ругали долго... По вечерам мы подробно рассказывали о своих похождениях. Наконец сало привезли в колонию. В первую же ночь оно было украдено.
Я даже обрадовался этому обстоятельству. Ожидал, что вот теперь заговорит коллективный, общий интерес и заставит всех с большим воодушевлением заняться вопросом о воровстве. Действительно, все ребята опечалились, но… всех вновь обуял спортивный интерес: кто это так ловко орудует?
Ещё через несколько дней из конюшни пропал хомут, и нам нельзя было даже выехать в город.
Кражи происходили уже ежедневно. Утром обнаруживалось, что чего‑то не хватает: топора, пилы, посуды, простыни, чересседельника, вожжей, продуктов. Я пробовал ночью ходить по двору с револьвером, но больше двух‑трёх ночей, конечно, не мог выдержать.
Задоров раскатисто смеялся и шутил:
– А вы думали как, Антон Семёнович, трудовая колония, трудись и трудись – и никакого удовольствия? Подождите, ещё не то будет! А что вы сделаете тому, кого поймаете?
– Посажу в тюрьму.
– Ну, это ещё ничего. Я думал, бить будете.
Как-то ночью он вышел во двор одетый.
– Похожу с вами.
– Смотри, как бы воры на тебя не взъелись.
– Нет, они же знают, что вы сегодня сторожите, всё равно сегодня не пойдут красть.
– Признайся, Задоров, что ты их боишься?
– Кого? Воров? Конечно, боюсь. Так не в том дело, а ведь согласитесь, Антон Семёнович, как‑то не годится выдавать.
– Так ведь вас же обкрадывают.
– Ну, чего ж там меня? Ничего тут моего нет.
– Да ведь вы здесь живёте.
– Какая там жизнь, Антон Семёнович! Разве это жизнь? Ничего у вас не выйдет с этой колонией. Напрасно бьётесь. Вот увидите, раскрадут всё и разбегутся. Вы лучше наймите двух хороших сторожей и дайте им винтовки.
Мысль о том, что нужно нанять сторожей, высказывалась многими колонистами.
Антон Братченко доказывал:
– Когда сторож стоит, никто красть и не пойдёт. А если и пойдёт, можно ему в это самое место заряд соли всыпать...
Ему возражал Костя Ветковский: –
Нельзя сторожей! Сейчас мы ещё не понимаем, а скоро поймём все, что в колонии красть нельзя. Вот мы скоро сами начнём сторожить. Правда, Бурун? – обратился он к Буруну.
– А что ж, сторожить так сторожить, – сказал Бурун.
В феврале наша экономка прекратила своё служение колонии, я добился её перевода в какую‑то больницу. В один из воскресных дней к её крыльцу подали Малыша, и начали укладывать многочисленные мешочки и саквояжики на сани. Добрая старушка, мирно покачиваясь на вершине своего богатства, выехала навстречу новой жизни.
Малыш возвратился поздно, но возвратилась с ним и старушка и с рыданиями ввалилась в мою комнату: она была начисто ограблена. Я немедленно разбудил Калину Ивановича, Задорова и Таранца, и мы произвели генеральный обыск во всей колонии. Награблено было так много, что всего не успели как следует спрятать. В кустах, на чердаках сараев, под крыльцом, под кроватями были найдены все сокровища экономки…
Ребята сначала запирались, но я на них прикрикнул и горизонты прояснились. Выяснилось, что главным деятелем во всём этом происшествии был Бурун. Открытие это поразило многих, и прежде всего меня. Меня ошеломили размах и солидность его действий: он запрятал целые тюки старушечьего добра. Не было сомнений, что все прежние кражи в колонии – дело его рук.
Я привёл Буруна на суд народный, первый суд в истории нашей колонии.
В спальне, на кроватях и столах, расположились оборванные чёрные судьи. Пятилейная лампочка освещала взволнованные лица колонистов и бледное лицо Буруна, тяжеловесного, похожего на Мак-Кинлея, президента Соединённых Штатов Америки.
В негодующих тонах я описал ребятам преступление: ограбить старуху, у которой только и счастья, что в этих несчастных тряпках, ограбить, несмотря на то, что никто в колонии так любовно не относился к ребятам, как она, – это значит действительно ничего человеческого в себе не иметь, это значит быть даже не гадом, а гадиком. Человек должен уважать себя, должен быть сильным и гордым, а не отнимать у слабых старушек их последнюю тряпку.
Либо моя речь произвела впечатление, либо у колонистов накипело, но на Буруна обрушились дружно и страстно. Вихрастый Братченко протянул обе руки к Буруну:
– А что? А что ты скажешь? Тебя нужно в допр посадить! Мы через тебя голодали, ты и деньги взял у Антона Семёновича.
Бурун вдруг запротестовал:
– Деньги у Антона Семёновича? А ну докажи!
– А что, не взял? Не ты?
– А кто это докажет?
Раздался сзади голос Таранца:
– Я докажу.
Бурун опешил. Повернулся в сторону Таранца, что‑то хотел сказать, потом махнул рукой:
– Ну что же, пускай и я. Так я же отдал!
Ребята на это ответили неожиданным смехом. Таранец глядел героем. Он вышел вперёд.
– Только выгонять его не надо. С кем не бывало. Набить морду хорошенько – это действительно следует.
Все примолкли. Бурун медленно повёл взглядом по рябому лицу Таранца.
– Далеко тебе до моей морды. Чего ты стараешься? Всё равно завколом не будешь. Антон набьёт морду, если нужно, а тебе какое дело?
Ветковский сорвался с места:
– Как «какое дело»? Хлопцы, наше это дело или не наше?
– Наше! – закричали хлопцы. – Мы тебе сами морду набьём получше Антона!
Я оттащил Братченко от Буруна. Насилу прекратили шум.
– Пусть говорит Бурун! – крикнул Братченко.
Бурун опустил голову.
– Нечего говорить. Вы все правы. Отпустите меня с Антоном Семёновичем – пусть накажет.
Тишина. Я двинулся к дверям, боясь расплескать море зверского гнева, наполнявшее меня до краёв. Колонисты шарахнулись в обе стороны, давая дорогу мне и Буруну.
Через тёмный двор мы прошли молча: я – впереди, он – за мной.
У меня на душе было отвратительно. Я не знал, что с ним делать. В колонию он попал за участие в воровской шайке, значительная часть членов которой – совершеннолетние – была расстреляна. Ему было семнадцать лет.
Бурун молча стоял у дверей. Я сидел за столом и еле сдерживался, чтобы не пустить в Буруна чем-нибудь тяжёлым…
Наконец, Бурун поднял голову, пристально глянул в мои глаза и сказал медленно, подчёркивая каждое слово, сдерживая рыдания:
– Я… больше… никогда… красть не буду.
– Врёшь! Ты это уже обещал комиссии.
– То комиссии, а то – вам! Накажите, как хотите, только не выгоняйте из колонии.
– А что для тебя в колонии интересно?
– Мне здесь нравится. Здесь занимаются. Я хочу учиться. А крал потому, что всегда жрать хочется.
– Ну хорошо. Отсидишь три дня под замком, на хлебе и воде. Таранца не трогать!
– Хорошо.
Бурун сдержал слово: он никогда потом ничего не украл ни в колонии, ни в другом месте.
28. Начало фанфарного марша ...
Жизнь наших двух колоний пошла как хороший, исправный поезд. Колонистов к этому времени было до восьмидесяти. Кадры двадцатого и двадцать первого годов сбились в очень дружную группу и неприкрыто командовали в колонии, составляя на каждом шагу для каждого нового лица негнующийся волевой каркас, не подчиниться которому было, пожалуй, невозможно. Колония сильно забирала и раззадоривала новеньких красивым внешним укладом, чёткостью и простотой быта, довольно занятным списком разных традиций и обычаев. Обязанности каждого колониста определялись в требовательных и нелёгких выражениях, но все они были строго указаны в нашей конституции, и в колонии почти не оставалось места ни для какого своеволия, ни для каких припадков самодурства. В то же время перед всей колонией всегда стояла не подлежащая никакому сомнению в своей ценности задача: расширить наше хозяйство. Поэтому мы все легко мирились с очень многими недостатками, отказывали себе в лишнем развлечении, в лучшем костюме, в пище, отдавая каждую свободную копейку на свинарню, на семена, на новую жатвенную машину. К нашим небольшим жертвам делу восстановления мы относились так добродушно-спокойно, с такой радостной уверенностью, что я позволял себе прямую буффонаду на общем собрании, когда кто-нибудь из молодых поднимал вопрос: пора уже пошить новые штаны. Я говорил:
– Вот окончим вторую колонию, разбогатеем, тогда всё пошьём: у колонистов будут бархатные рубашки с серебряным поясом, у девочек – шёлковые платья и лакированные туфли, каждый отряд будет иметь свой автомобиль и, кроме того, на каждого колониста велосипед, а вся колония будет усажена тысячами кустов роз. Видите? А пока давайте купим на эти триста рублей хорошую симментальскую корову.
Колонисты хохотали от души, и после этого для них не такими бедными казались ситцевые заплаты на штанах...
Верхушку колонистского коллектива и в это время ещё можно было походя ругать за многие уклонения от идеально-морального пути, но кого же на земном шаре нельзя за это ругать? А в нашем трудном деле эта верхушка показывала себя очень исправным и точно действующим аппаратом... В этой верхушке состояли почти все старые наши знакомые: Карабанов, Задоров, Вершнев, Братченко, Волохов, Ветковский, Таранец, Бурун, Гуд, Осадчий, Настя Ночевная; но в эту группу уже вошли новые имена: Опришко, Георгиевский, Волков Жорка и Волков Алёшка, Ступицын и Кудлатый…
…Рядом с верхушкой располагались две широкие группы, резерв. С одной стороны – это старые боевые колонисты, прекрасные товарищи, не обладающие, однако, заметными талантами организаторов, люди сильные и спокойные. Это Приходько, Чбот, Сорока, Леший, Глейзер, Шнайдер, Корыто… С другой стороны – это подрастающие пацаны, действительная смена, уже и теперь показывающая зубы будущих организаторов. Они, по возрасту, ещё не могут взять в руки бразды правления, да и старше сидят на местах... Но они имеют и много преимуществ: они вкусили колонистскую жизнь в более молодом возрасте, глубже восприняли её традиции, сильнее верят в неоспоримую ценность колонии, а самое главное – они грамотнее, у них наука. Всё это будущие командиры и деятели эпохи завоевания куряжа. И сейчас они уже часто ходят в комсводотрядах.
...А остальная часть в глазах самих колонистов делилась на три раздела: «болото», пацаны и «шпана». В «болото» входили колонисты, ничем себя не проявившие… Но из «болота» то и дело выделялись личности заметные и вообще «болото» было состоянием временным. Малышей было у нас десятка полтора; в глазах колонистов это было сырьё, главная функция которого – учиться вытирать носы. Впрочем, малыши удовлетворялись играми, коньками, лодками, рыбной ловлей, санками и другими мелочами.
В «шпане» было человек пять. Отнесены они были к «шпане» единодушным решением всего общества, после того как установлено было за каждым из них наличие бьющего в глаза порока: Галатенко – обжора и лодырь, Евгеньев – припадочный, брехливый болтун, Перепелятченко – плакса, попрошайка, Густоиван – юродивый, «психический»... От некоторых пороков «шпане» со временем удалось избавиться…
Такой был коллектив к концу двадцать третьего года. С внешней стороны все колонисты были, за немногими исключениями, одинаково подтянуты и щеголяли военной выправкой. У нас уже был великолепный строй, украшенный спереди четырьмя трубачами и восемью барабанами. Было у нас и знамя, прекрасное шёлковое…
В дни пролетарских праздников колония с барабанным грохотом вступала в город, поражая горожан и впечатлительных педагогов суровой стройностью, железной дисциплиной и своеобразной фасонной выправкой. Замирали в неподвижном «смирно!». Трубачи трубили салют всем трудящимся города, и колонисты поднимали руки. После этого наш строй разбегался в поисках праздничных впечатлений, но на месте колонны замирали: впереди знаменщик и часовые, на месте последнего ряда – маленький фланженер.
Одёжную бедность мы легко преодолевали благодаря нашей изобретательности. Мы были решительными противниками ситцевых костюмов, этой возмутительной особенности детских домов. А более дорогих костюмов мы не имели. Не было у нас и новой, красивой обуви. Поэтому на парады мы приходили босиком, но это имело такой вид, будто это нарочно. Ребята блистали чистыми белыми сорочками. Штаны подвёрнуты до колен и сияют внизу белыми отворотами чистого белья. И рукава сорочек подняты выше локтя. Получался очень нарядный, весёлый строй несколько селянского рисунка.
Третьего октября двадцать третьего года такой строй протянулся через плац колонии. К этому дню была закончена сложнейшая операция. На основании постановления объединённого заседания педагогического совета и совета командиров колония имени Горького сосредоточивалась в одном имении, а своё старое имение у Ракитного озера передавала в распоряжение губнаробраза. К третьему октября всё было вывезено во вторую колонию: мастерские, сараи, конюшни, кладовые, вещи персонала, столовая, кухня и школа. На утро третьего в колонии оставались только пятьдесят колонистов, я и знамя.
В двенадцать часов представитель губнаробраза подписал акт в приёме имения колонии имени Горького и отошёл в сторонку. Я скомандовал:
– Под знамя, смирно!
Колонисты вытянулись в салюте, загремели барабаны, заиграли трубы знаменный марш. Знаменная бригада вынесла из кабинета знамя. Приняв его на правый фланг, мы не стали прощаться со старым местом. Просто не любили оглядываться назад.
Во дворе второй колонии собрался весь персонал, много селян из Гончаровки и блестел такой же красотой строй колонистов второй колонии, замерший в салюте горьковскому знамени.
Мы вступили в новую эпоху.
Фото: pulse.imgsmail.ru, mel.fm
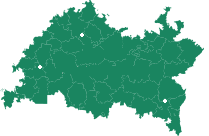

Добавить комментарий